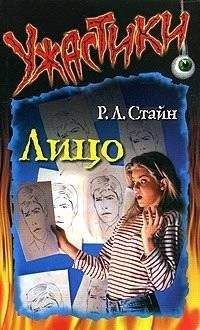Роберт Уоррен - Вся королевская рать
В Скидморе после митинга я сидел в кабинке греческого кафе и пил кофе, чтобы успокоить нервы и спрятаться от людей, от запаха тел, гогота толпы и ее глаз, когда появилась Сэди Берк и, окинув взглядом помещение, заметила меня, зашла ко мне в кабинет и села напротив.
Сэди принадлежала к числу новых друзей Вилли, но я ее знал давно. По слухам, еще более тесная дружба связывала ее с неким Сен-Сеном Пакеттом, который сосал сен-сен, чтобы хорошо пахло изо рта, имел большой вес как в физическом, так и в политическом смысле и раньше (а возможно, и сейчас) дружил с Джо Гарисоном. Говорили, что именно Сен-Сену принадлежала блестящая мысль использовать Вилли в качестве пешки. Сэди была чересчур хороша для Сен-Сена, хотя его бы никто не назвал уродом. Она же не отличалась красотой, особенно если встать на точку зрения судей, которые выбирают мисс Орегон и мисс Нью-Джерси. У нее была складная фигура, но вы не замечали этого из-за безобразных платьев и резкой, неуклюжей манеры жестикулировать. Ее волосы, совершенно черные и немыслимо остриженные, торчали во все стороны, будто их зарядили электричеством. Точно так же вы обращали внимание не на то, что у нее приятные черты лица, а на то, что оно рябое. Но глаза у нее действительно были прекрасны – глубоко посаженные, бархатные, черные, как чернила.
Однако Сэди была чересчур хороша для Сен-Сена не из-за своей красоты. Сен-Сен не стоил ее потому, что он был холуй. Но он был недурен собой, и Сэди подобрала его, а затем – опять же по слухам – пристроила к этому грязному делу. Сэди была ловкая дама. Она давно занималась политикой и прошла огонь и воду.
В Скидмор она прибыла со штабом Старка в несколько неопределенной роли секретаря (и, видимо, сенсеновского соглядатая). Она вела организационные дела и сообщала Вилли полезные сведения о местных знаменитостях.
Теперь она приблизилась к столу обычной своей бурной походкой и, посмотрев на меня сверху, спросила:
– Можно с вами сесть?
И села, не дожидаясь ответа.
– Не только сесть, – учтиво ответил я. – Встать, сесть, лечь – я на все согласен.
Она критически оглядела меня глубоко посаженными чернильно-черными глазами, блестевшими на рябом лице, и покачала головой.
– Нет, спасибо, – сказала Сэди, – предпочитаю что-нибудь попитательнее.
– Вы хотите сказать, что у меня непривлекательная наружность?
– Меня не волнует наружность, – ответила она, – но и не привлекают люди, похожие на коробку макарон. Сплошные локти и сухой треск.
– Ладно, – сказал я. – Снимаю свое предложение. С достоинством. Но скажите мне одну вещь, раз уж мы заговорили о питательности. Как вы думаете, ваш кандидат Вилли – питательное кушанье? Для избирателей?
– О господи, – прошептала она, закатив глаза.
– Хорошо, – сказал я. – Когда вы намерены сказать своим мальчикам в городе, что это пустой номер?
– Что значит пустой? Они устраивают в Аптоне митинг и грандиозное угощение с жареным поросенком. Если верить Дафи.
– Сэди, вы же знаете не хуже моего, что им надо было бы зажарить большого косматого мастодонта и положить на бутерброды десятидолларовые бумажки вместо салата. Почему вы не скажете вашим хозяевам, что это пустой номер?
– С чего вы взяли?
– Послушайте, Сэди, – сказал я, – мы ведь старые приятели, не надо дядю обманывать. Я не сразу бегу в газету, если что-нибудь узнаю, а я знаю, что кандидатом Вилли сделали не ораторские таланты.
– Правда, он ужасен?
– Я знаю, что это подстроено, – сказал я. – Все знают, кроме Вилли.
– Пожалуй, – признала она.
– Так когда же вы скажете своим мальчикам в городе, что они бросают деньги на ветер? Что Вилли не отнял бы ни единого голоса даже у Эйба Линкольна в колыбели Конфедерации?
– Надо было давно это сделать, – сказала она.
– Когда же вы соберетесь? – спросил я.
– Да нет, – сказала она. – Я им говорила с самого начала. Но они не желают слушать Сэди. Болваны. – И, выпятив круглую красную блестящую нижнюю губу, она вдруг извергла облако табачного дыма.
– Почему вы сейчас им не скажете, что это пустой номер, и не избавите беднягу от мучений?
– Пусть тратят свои вонючие деньги, – раздраженно сказала она и мотнула головой, словно дым ел ей глаза. – Жалко еще, что мало истратили. Жалко, что этот недотепа не догадался содрать с них как следует за то, что пошел на экзекуцию. Теперь он ничего не получит, кроме бесплатной поездки. Ну и на здоровье. Вот уж правда – блаженное неведение.
Подошла официантка с чашкой кофе – Сэди, наверное, заказала его перед тем, как подсесть ко мне. Она отхлебнула кофе и глубоко затянулась.
– Знаете, – сказала она, яростно раздавив окурок в чашке и глядя на него, а не на меня. – Знаете, даже если ему скажут. Даже если он поймет, что остался в дураках, он все равно не перестанет.
– Да, – докончил я, – произносить речи.
– Господи, какой бред, – сказала она.
– Да.
– Все равно не перестанет, – сказала она.
– Да.
– Дубина, – сказала Сэди.
Мы вернулись в гостиницу и не виделись с Сэди до самого Аптона – только раз или два мимоходом. Дела у Вилли за это время не поправились. Я уехал примерно на неделю, бросив кандидата на произвол судьбы; потом услышал новости. Накануне митинга с угощением я сел в аптонский поезд.
Аптон расположен на западе штата, это столица захолустья, чьи жители должны были выскочить из зарослей на запах предвыборного поросенка. Чуть к северу от него есть небольшие залежи угля, там в лачугах компании живут шахтеры и молятся о полном рабочем дне. Подходящее место для митингов с угощением – сбор тут обеспечен. Эти люди из лачуг живут так, что готовы пробежать пятнадцать миль за кусочком свежатины. Если у них хватит сил, а мясо дают бесплатно.
Пыхтя и зевая, дергаясь и теряя ход, пригородный поезд тащился среди хлопковых полей. Мы въезжали на запасные пути, стояли полчаса, чего-то ждали, и я смотрел на сходящиеся к разогретому горизонту ряды хлопчатника, среди которых торчало черное пнище. К концу дня дорога пошла по вырубкам, заросшим полынью. Поезд останавливался у желтой, похожей на ящик станции, вокруг теснились некрашеные домишки, вдалеке, в конце улицы, был виден центр города; потом поезд трогался, и мимо проплывали задние дворы, огороженные проволокой или тесом, словно для того, чтобы отогнать пустоту полынной бугристой страны, которая подползла, разевая пасть на эти домишки. Дома выглядели ненужными, хлипкими, случайно сюда заброшенными, и казалось, их вот-вот покинут. На веревках сохнет белье, но люди уйдут и бросят его. У них не будет времени сорвать белье с веревок. Скоро стемнеет, и им лучше поторопиться.
Но поезд уходит, и в задней двери одного из домов появляется женщина – фигура женщины, потому что лица не видно, – в руках у нее сковорода, она выплескивает воду, и вода сверкает серебряными лоскутами. Женщина возвращается в дом. К тому, что в доме. Пол его тонок на голой земле, стены и крыша слабы перед напором пространства, но вы не видите сквозь них той тайны, к которой ушла женщина.
Поезд уходит прочь все быстрее, а женщина уже внутри, там, где она хочет остаться. Там она и останется. И тогда вам кажется, что это вы бежите, бросив все, и должны бежать поскорее, куда бежите, потому что скоро стемнеет. Теперь поезд идет быстро, но ему трудно преодолеть упрямую перенасыщенную вязкость воздуха – как если бы угорь пытался плыть в сиропе, – а может, ему трудно осилить неумолимо растущий магнетизм земли. И кажется, что если по земле пробежит судорога, как по шкуре собаки во сне, то поезд слетит под откос, паровоз сблюет, подавившись паром, и задранное колесо его провернется с тяжелой, сонной медлительностью.
Но ничего не случилось, и вы вспоминаете, что женщина даже не взглянула на поезд. Вы забываете о ней, поезд едет быстро, еще быстрее по короткой эстакаде. Вы ловите взглядом трезвый, ясный металлический блеск спокойной воды между тесных берегов под темнеющим небом, а выше по течению у одинокой согнутой ивы в воде стоит корова. И вдруг вам хочется заплакать. Но поезд едет быстро и уносит вас от того, что вам хочется.
Дурак, ты думаешь, тебе хочется доить корову?
Тебе не хочется доить корову.
И вот вы в Аптоне.
В Аптоне с легким чемоданом и пишущей машинкой в руках, проталкиваясь в толпе народа, под медленными, долгими, по-деревенски откровенными взглядами я шел к гостинице; люди не уступали дорогу, пока я не налетал на них, – так не уступает дороги корова, пока радиатор машины чуть не толкнется в ее обвислые ребра. В гостинице я съел бутерброд, поднялся к себе в номер, включил вентилятор, заказал кувшин воды со льдом, снял туфли и рубашку и сел в кресло с книгой.
В половине одиннадцатого в дверь постучали. Я крикнул «да», и вошел Вилли.
– Где ты был? – спросил я.
– Я еще днем приехал, – ответил он.