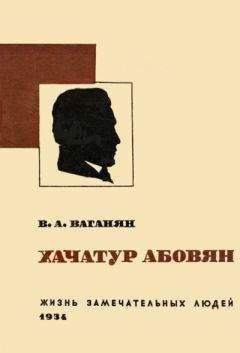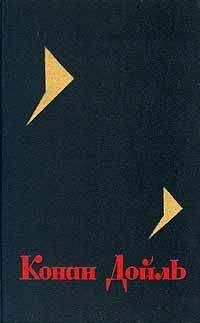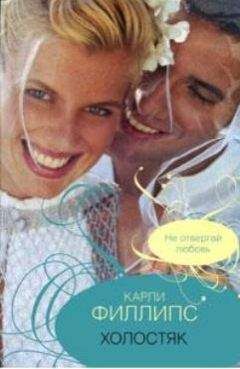Хачатур Абовян - Раны Армении
Ветерок шелестел в ее волосах, и раз коснувшись лица ее, уже не хотел ни далее лететь, ни возвращаться обратно, все кружил над ее головой, все играл с ее волосами.
Когда наклонялась она над розой, роза сама тянулась к ней, как бы желая поймать ее дыхание, похитить у нее цвет ланит и стать оттого еще прекраснее, еще благоуханней.
Соловей, почувствовав ее присутствие, позабывал свою Розу и начинал воспевать ее, сгорал и томился от тоски по ней.
Часто, когда она произносила что-нибудь или пела сама для себя, ей казалось, что это ангелы говорят с ней, откликаются, вторят ее голосу.
Утренняя роса с ликованием спускалась на землю, чтобы пасть на ее непорочное лицо. Последний луч вечерний отворачивался и закрывал глаза, чтобы она поскорее уснула, чтоб поскорее ночь прошла и он мог бы вновь прийти поутру, удостоиться свидания с нею, вдохновиться ее светом и возрадоваться.
Сон сходил к ее очам, как небесный ангел к святому: простирал крылья над лицом ее, навевал на нее небесные грезы, ласкал, пробуждал и снова заключал в объятия.
Ах, где я найду слова? Каждый ее поворот, каждое слово, взгляд, каждое движение глаз и губ ее — были чудесны.
Раскроет она лучистые глаза свои или губы, майораном благоухающие, — и человек уже ни есть, ни пить не хочет, а только лишь смотреть, любоваться на стройный стан ее, у ног ее испустить дух, из рук ее принять смерть.
И вот, этот ангел небесный, этот ангел невинный находился в руках зверей!
Какое нужно иметь каменное, жестокое сердце, чтобы, увидав ее или услыхав рассказ о ее жизни, не содрогнуться от ужаса? Какая мать в подобную минуту не схватила бы шашку и не вонзила бы себе в грудь? Какой сосед или прохожий, глядя на ее лучезарное лицо, не зажмурил бы глаза, чтобы заплакать и тем облегчить свое сердце?
Но бедный наш сельский люд столько подобных дел навидался и наслышался, что и слезы иссякли, и глаза перестали видеть.
Как раз в это время ферраши, приметя, что мать и дочь, обе обессилили от горя, уже не голосят и даже не дышат, сочли за благо взять их в таком расслабленном состоянии и увезти, чтобы они не слишком мучились и страдали.
Двое из них уже сели на коней и устраивали места для обеих женщин, один — для матери, другой — для дочери впереди, перед собою и, ничего не подозревая, думали уже, что хорошо справились со своим делом, — как вдруг засверкала шашка.
Голова одного из феррашей скатилась на землю и стала клокотать, бормотать и приплясывать. Еще не успела она затихнуть, как голова другого подверглась той же участи, покатилась за ней следом.
— Агаси-джан, Агаси, погубил ты наш дом. Опусти руку, пожалей ты своего старика-отца. Со всеми детьми, всем домом мы теперь в плен попали. Не делай ты этого, удержись, душа моя, свет ты мой, — пожалей хоть свою молодую жизнь! Ах ты, безжалостный! Господи, что же это за бедствие на нашу голову! Святой воитель-Георгий, святой Иоанн-Креститель, помогите вы нам![48] Ребята, убирайтесь отсюда, убирайтесь, чтобы и след ваш простыл!
Да побегите кто-нибудь к старосте, сообщите ему весточку… Будь ему пусто, обернись ему вино ядом, — тут кровь морем разливается, а наши дурни старейшины сидят — кутят! Ну и люди! — да ляжет на них проклятьем и пир их, и свят-крест, и евангелие!
Несчастные, спросили бы хоть о людском горе, — а вы сидите в четырех стенах с кувшином да чашей, лакаете, надуваетесь!
Эй, Вато! сюда скорей, сюда! Дело-то все хуже разгорается. Сейчас придут, всех нас отведут к сардару в крепость
Агаси, Агаси! Оглох ты, что ли? Беги, беги, спасайся от этих собак, спрячься куда-нибудь! Что ты, несчастный, наделал? Погубил ты нас всех, разрушил наш дом, ох, безжалостный…
Но если бы в эту минуту загрохотали пушки и забили в барабаны, Агаси все равно не услыхал бы. Он в самом деле оглох, ни уши, ни глаза, ни тело уже ему не принадлежали, однако рассудок и рука твердо знали, что делали. Глаза его налились кровью. Теперь мог молодой храбрец показать силу руки и уменье свое владеть шашкой! И зачем была ему шашка, если не для такого случая?
Еще с места джигитовки увидел он, что народ переполошился, а потом затих.
— Ребята, тут что-то неладно, — едемте, масленицу нашу опоганили!.. — сказал он и полетел вихрем.
Как заметили, что он скачет, зная его горячий нрав, — со ста мест раздались голоса, люди замахали руками, шапками, чтобы он повернул обратно, но у него уже дух захватило. С такой быстротой пустил он коня своего вскачь, что даже проверить не успел, заряжено ли у него ружье или нет.
Как лев, набросился на феррашей молодой богатырь. Он уже по дороге понял, что происходило.
Когда отсек он двоим головы, другие обнажили было шашки, но храбрец Агаси — как крикнет:
— Бесовы дети! Кто вас прислал сюда? На кого ополчились? Армянин молчит, — так, стало быть, надо его живьем съесть? Вот сейчас погашу свет в глазах ваших, — вон отсюда! Не то каждому из вас передо мной трепыхаться, как цыпленку зарезанному! Пока рука моя при мне — нитки вы отсюда не унесете!
Сказал — и одному отмахнул плечо, другому выпустил кишки — а шестеро остальных, зная, что исхода им нет, вскочили на коней и помчались напрямик в крепость.
— Вставай, голубка! Такуи-джан, открой очи свои ясные, свет мой, — ведь не помер еще Агаси, не истлели кости его и в прах не обратились, чтобы посмел кто-нибудь пальцем одним коснуться волос твоих дивных! Горе очам моим! Горе моему солнцу! — вся-то она оцепенела, вся застыла! Такуи-джан — ненаглядная моя, вот возьми, возьми душу мою, пусть лучше я умру, только ты живи, сердца бедной матери своей не сокрушай, не терзай, молю тебя!..
Так говорил нежный юноша, плакал и бил себя по голове. Слезы катились градом из его глаз.
Побежали за водой. А он, скрестив руки и сам тоже словно окаменев, продолжал стоять неподвижно.
Он не осмеливался приблизиться к ней, обнять ее, размять ей руки, сказать на ухо доброе слово, потрепать рукой по щеке, — чего нельзя, того нельзя: Такуи была девушка, чужая дочь.
Глядел он на несчастную мать, — она не издавала ни звука, глядел по сторонам, — адское зрелище мертвецов представлялось глазам его. А больше никого, ни единой души, ни единого лица человеческого не было видно вокруг. Все убежали, пустились в горы и ущелья спасать свою голову.
Собаки выли и лаяли, петухи и куры кричали, — как будто говорили ему с сочувствием:
— Хватит и того, что ты наделал, спасай голову! Скрывайся скорей, скачи в Памбак, в Тифлис[49], — на русскую землю. В этой стране солнце твое закатилось, день твой померк, светильник твой погас. Жерло пушечное здесь ожидает тебя. Пока еще тихо, пока повод коня твоего у тебя в руках, пока еще есть у тебя дыхание в устах и сила в ногах, — беги, спасай себя!
Если останешься, все равно весь дом ваш вырежут, уедешь — то же самое будет, — но, хоть по крайней мере, себя спасешь! Один ты сын у отца, не задувай его очага. Ведь руки у тебя в крови, ты убил слуг сардара. Ах, где ж твоя совесть! Подумай только — ведь их кровь с тебя взыщут. Их родные теперь в бешенстве, с пеной у рта небось сами себя грызут.
Что же ты стоишь, как деревянный! Чего еще ждешь? Резвый конь под тобою, оружие и доспехи на тебе, а кусок хлеба везде найдется на белом свете…
7Казалось, ад разверзся перед ним. Дьяволы о тысяче головах скрежетали зубами, дико радовались, хохотали, выли, точили когти, разводили, раздували адское пламя, собираясь сжечь его, зажарить и поделить куски его между собою. Тысячи карасов с горячей смолой, тысяча змей и скорпионов, казалось, ожидали, раскрыв пасть, готовые растерзать его, проглотить, сожрать.
Едва он успевал очнуться от ужасного этого сна, как ему начинало мерещиться, что сардаровы палачи, засучив рукава, с налитыми кровью глазами, с отточенными шашками, подходят к нему и вот-вот сейчас его уведут. Пушкарь прочищает, готовит пушку, уже заряд выбран и поднесен. Отец, мать, родня, земляки, прохожие, — все будто кричат, голосят, хлопают себя по голове, по коленям бьют, сокрушаются, кличут его по имени и оплакивают:
— Агаси-джан, и меня, и меня ударь шашкой! Погибла моя жизнь, померкло солнце… Разрушен дом… дитя ты мое… душа моя… небо, земля, ангел ты мой… ой, горе!., глаза мои выкатились, зрачки потухли… срази меня своей рукой, сын ты мой драгоценный… умру у ног твоих, дышать перестану!., милый ты мой… из рук твоих приму смерть!., душа ты моя… Седины мои подстелю под ноги тебе, Агаси-джан! Пока есть свет в глазах моих, дыхание в устах моих, стань на уста мои ногой, вонзи мне шашку в самое сердце, дай мне смерть, дай я уйду, сгину совсем, — а там делай, что хочешь. Лиши меня света очей! К небу я приравнял тебя, сын мой… вершина моя горная, божество мое!..
Старик валялся в ногах Агаси, бился головой оземь, рвал на себе волосы, кидался обнимать ему колени.