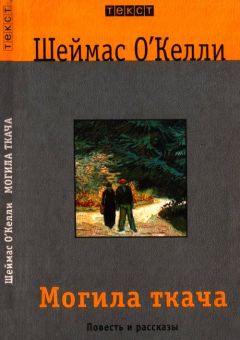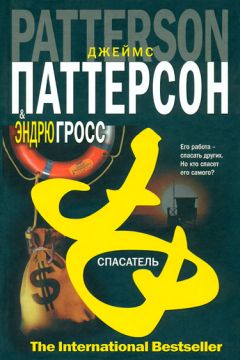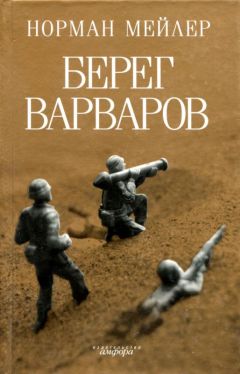Норман Мейлер - Американская мечта
– Робертс, по-моему, она права. Вам стоило бы одернуть этого типа.
– Собираетесь рассказать об этом в своей программе? – поинтересовался Лежницкий.
– Пригласить вас на эту передачу?
– Лучше кончайте с этим, – сказал дядюшка Гануччи. – В нашем мире и без того слишком много жестокости.
– Эй, Ред! – крикнул Лежницкий. – Парень пьян. Сунь его на ночь в камеру, пусть освежится.
– Он хотел укусить меня, – проорал в ответ Ред.
– Сунь его в камеру.
– Ну, а теперь, – сказал дядюшка Гануччи, – не пора ли покончить с нашим делом? Я очень болен.
– Нет ничего проще, – ухмыльнулся Лежницкий. – Нужна лишь гарантия того, что вы явитесь по нашей повестке.
– Мы это уже обсуждали, – вмешался адвокат. – Я готов за него поручиться.
– Интересно, черт побери, что вы имеете в виду? – спросил Лежницкий.
– Пойдемте со мной, – сказал Робертс. – Нужно потолковать кой о чем.
Я кивнул. И подошел к Шерри. Ее дружок Тони бросил на меня злобный взгляд, от которого у меня мурашки по коже забегали: «Только посмей с ней заговорить, и тебе не поздоровится».
– Мне хотелось бы послушать, как вы поете.
– Буду очень рада, – ответила она.
– И где же это заведение?
– В Гринвич-Вилледже. Совсем маленький ночной клуб. Недавно открылся.
Она взглянула на Тони, чуть помолчала, а потом спокойно продиктовала мне адрес. Краем глаза я увидел, как из задней комнаты вывели негра и увели прочь.
– Пошли, Роджек, – сказал Робертс. – У нас есть для вас новости. – Было уже часа три ночи, но вид у него был вполне бодрый.
Как только мы уселись за стол, он улыбнулся и сказал:
– Думаю, нет смысла ожидать от вас немедленного признания?
– Разумеется.
– Что ж, ладно. Мы решили отпустить вас.
– Вот как?
– Да.
– Значит, все кончено?
– Да что вы, ни в коем случае. Ничто не кончено, во всяком случае до тех пор, пока коронер не произведет дознание и не вынесет решение о самоубийстве.
– И когда это произойдет?
Он пожал плечами.
– Может, через день, а может, через неделю. Никуда не уезжайте из города.
– Меня все еще в чем-то подозревают?
– Да бросьте вы. Мы знаем, что вы ее убили.
– Но не можете задержать меня?
– За милую душу можем. Задержать как свидетеля. И допрашивать вас на протяжении семидесяти двух часов. И вы непременно расколетесь. Но вам повезло, неслыханно повезло. Всю эту неделю нам придется разбираться с Гануччи. На вас у нас просто нет времени.
– Значит, нет и улик.
– Девица разговорилась. Мы знаем, что вы с ней спали.
– Это ничего не доказывает.
– У нас есть и другие доказательства, но мне не хотелось бы говорить о них сейчас. Мы вызовем вас через денек-другой. Не появляйтесь на квартире жены. И не лезьте к служанке. Вы ведь не хотите оказывать давление на свидетеля?
– Не хочу.
– И, ради Бога, не обижайтесь.
– Ни в коем случае.
– Да нет, я серьезно. Вы хорошо держитесь. Вы славный мужик.
– Спасибо.
– Да, вот еще, это может вас заинтересовать. Мы провели вскрытие. Судя по всему, у вашей жены был рак. Нужны дополнительные анализы, но пока все складывается в вашу пользу.
– Понятно.
– Поэтому мы вас и отпускаем.
– Ясно.
– Но не радуйтесь слишком рано. Вскрытие показало также, что прямая кишка вашей жены в весьма своеобразном состоянии.
– О чем это вы?
– В течение недели у вас будут более основательные причины побеспокоиться из-за этого. – Он встал. – Спокойной ночи, приятель. – Потом чуть помолчал. – Да, вот еще что. Забыл попросить вас подписать протокол вскрытия. Подпишите-ка его прямо сейчас.
– Вскрытие было незаконным?
– Скажем: не очень аккуратно оформленным.
– Не понимаю, чего ради мне его подписывать.
– Пораскиньте мозгами. Если вы не подпишете, мы упрячем вас в камеру до тех пор, пока коронер не произведет дознание.
– Хорошенькие дела.
– Ничего особенного. Не валяйте дурака, подписывайте.
Что я и сделал.
– Ладно, – сказал Робертс. – Я еду домой. Вас подбросить?
– Я немного прогуляюсь.
И я пошел пешком. Долгие мили я шел в зыбкой ночной мороси и ближе к рассвету обнаружил, что нахожусь в Гринвич-Вилледже возле ночного кабака, где пела Шерри. Я не умер в эту ночь, я дожил до рассвета. На улице светало, и вот-вот должно было взойти солнце. Но взойти ему предстояло в зимнем смоге серого туманного утра.
Обшарпанная металлическая дверь открылась на мой стук.
– Я друг Тони, – сказал я человеку за дверью.
Он пожал плечами и впустил меня. Я прошел по коридору и вошел в другую дверь. Помещение находилось в задней части цокольного этажа и было декорировано под бар в Майами, ночная коробочка с оранжевой кожаной обивкой стен в кабинках, высоких стульчиков и стойки бара, черный ковер на полу и потолок цвета красного вина. Кто-то играл на пианино, и Шерри пела. Она увидела, как я вошел, и улыбнулась мне, стараясь не сбиться с дыхания, словно обещая, что, да, она выпьет со мной рюмку-другую, как только закончит петь. Что ж, если смерть Деборы действительно даровала мне новую жизнь, то сейчас мне было уже восемь часов от роду.
4. ЗЕЛЕНЫЕ КРУГИ УСТАЛОСТИ
Я был и впрямь болен и утомлен, и виски проделало свой кружной королевский путь по моей груди, по сгущению моих легких, по лабиринту живота, в проперченный кишечник. Полиция от меня отвязалась, хотя и напомнит о себе завтра, газеты уже понемногу развозят по ранним утренним ларькам, через пару часов детали моей частной жизни извергнутся, как из вулкана, уподобясь внезапно дому со спятившей электрической посудомойкой, визжащей на мальчишку-посыльного; позвонят с телестудии, и мне надо быть готовым самому позвонить в университет, начнут названивать друзья Деборы, впереди похороны, о, Господи, похороны, и разразится первая ложь в череде новых десятков тысяч. Я был похож на потерпевшего кораблекрушение морехода в недолгое затишье между бурями. Хотя нет, я походил скорее на старика, умирающего от сверхурочной работы, соскальзывающего в смерть, углубляясь все далее в самого себя. Роскошь оттенков пурпура окружает его, помогая его сердцу, и усталые ангелы встречают с работы, благосклонные небеса одобрительно взирают на то, как он скоротал свои суровые мрачные годы. Пожалуй, этот глоток бурбона был самым удачным за всю мою жизнь – расслабление пришло ко мне, паря на крыльях, и я поплыл в какой-то блаженной жидкой среде, более плотной, чем воздух, более благоуханной, чем вода. Пока Шерри пела, я пил ее
– мой слух никогда еще не бывал столь чуток. Что вовсе не означает, будто она была великой певицей: отнюдь нет. Но я наслаждался ею, я пребывал в точке равновесия, подобной одной из тех маленьких светящихся точек, которые маячат над титрами в кинокартине. Ее голос был поставлен довольно профессионально – она брала уроки у предшественников, заимствовала стили и не осваивала их до конца, но у нее был ясный и точный темп и очаровательный вкус к вариациям. Она пела: «Любовь на продажу, любовь, что чиста и свежа, любовь еще только возникшую…» Затем выделала что-то со словом «гадкий», что-то исполненное раскаяния, словно для того, чтобы показать, что утраченное бывает сквернее грязи. Да, голос ее был лишь чуть лучше самого заурядного, но опыт, сквозивший в нем, заурядным не был, голос Шерри переносил присутствующих на какую-то долю секунды в объятья друг друга, а это было ее достижение, ибо люди эти менее всего походили на влюбленных: судья-итальянец с парой потаскушек, несколько сыщиков, светлокожий толстый молодой негр с козлиной бородкой, как у китайского мандарина, какая-то старуха со множеством бриллиантов на пальцах – бриллиантов, блеск которых был украден у северного сияния, эти северные огни были ее девизом и визитной карточкой, ибо они гласили: я дважды вдова и верую в Бога, ибо он создал такую штуку, как молодые мужики, а молодой мужик, бывший с ней, был вне всякого сомнения педрилой. И наконец, у стойки бара разместилась компания из пяти человек: две девицы с тремя мужиками, сильно смахивающими на дружков Тони, потому что все они носили платиново-белые шелковые галстуки, белые шелковые рубашки и темно-синие костюмы. Один из них был в прошлом боксером-профессионалом, полусредневес с очень солидной славой и очень скверной репутацией на ринге, которого я сразу же узнал. Прибавьте еще несколько человек в том же духе – и перед вами возникнет образ тамошнего весьма заурядного сброда в этот сырой рассветный час, но ее голос, ее маленький голос (в пении он звучал куда выше, чем когда она разговаривала со мной на улице) дарил мне усладу, в нем было что-то чистое и нервное одновременно.
Если ищешь дрожь любви, если любишь дрожь любви, То полна я сплошь любви, только уплати мне.
Денежки положь любви, вынь да и положь любви – И тогда моей любви не найдешь взаимней, Если любишь ложь любви, только заплати мне.
Сценическое освещение было для нее выигрышным, кроваво-жемчужно-фиолетовое, прекрасное освещение для светлой блондинки, ибо оно озаряло ее лицо серебряными отсветами и углубляло бледные зеленые круги под глазами, превращая их в волшебные пещеры. Менее всего она походила на Марлен Дитрих, но очарование было то же самое, этот загадочный намек на ничейную полосу, где нельзя отличить истощение от шпионажа. Затем бес, добрый или дурной, обладающий телепатической мощью, вскарабкался к ней на сцену, и она запела «Эта леди потаскушка», но в такой грубовато-жалобной, напряженной и на редкость плоской версии, словно Марлен Дитрих и впрямь положила палец ей на адамово яблоко. «Заканчивай, – сказал я себе, – лучше остановись», и Шерри разразилась хохотом, фальшивым хохотом певицы, про которую говорят, что она чересчур напилась, и похлопала себя по ляжкам, задавая новый ритм пианисту (восхитительно мускулистый ритм), после чего закрыла глаза и весело рассмеялась.