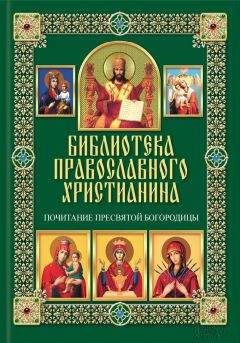Михаил Кононов - Голая пионерка
А сегодня опять, выходит, запел свою песенку. Может и вправду он диверсант? Ведь сколько угодно случаев! Чуть не каждый день сигналы поступают, бляха-муха! Сталин-то, уж будьте уверочки, как следует головой подумал, когда свои замечательные слова написал, потому они и стали девизом каждого, поголовно: враг не дремлет! И если бы Ростислав все же не засыпал обычно к концу ночи, перед рассветом, часика на полтора, так бы про него и решила сразу: подосланный, задание особое – подрывать боеспособность изнутри, по-подлому. Но вот задремлет он у Мухи на груди – и засмотрится на красавца девочка: интересный высокий офицер, и зубы, причем, белые, ровные, – русский, вроде, не ганс. И фамилия советская почти что. Нет, ну это же до какой степени последнего человеческого падения надо дойти морально, чтобы так бессовестно по наклонной плоскости катиться. Работать на врага открыто и нагло, избрав для успешного проведения своей диверсии самое уязвимое место в наших стальных рядах – резинку от трусов! Тут уже сразу ясно, у такого потерянного человека за душой ничего святого нет, кроме черной вражеской злобы и мерзкого задания наносить девушкам как можно чаще поцелуй в губы. Придется, значит, идти к смершевцам, докладывать, как положено: так, мол, и так, затесался в наши ряды переодетый в своем беспредельном коварстве враг.
Когда в прошлом году на капитана Баранчикова рапорт написала, в связи с подобными же его недопустимыми высказываниями в адрес офицерского персонала, как ни странно, – бедная ты, мол, разнесчастная, потаскушку из тебя сотворили себе командиры, игрушку бесплатную, – так никто ведь и не уточнял про него подробности, смерш все понимает с полуслова. В ту же ночь приехали. Вломились в землянку конспиративно, без стука, Лукич даже и не проснулся, и сняли чудака Баранчикова прямо с Мухи. Так в одних подштанниках и увезли. Он, бедный, подштанники-то никогда не снимал, лапочка такая, радикулит свой окопный берег, простудить лишний раз боялся, эгоист, почему его Муха и жалела всегда, обязательно вздыхала. Когда очень уж стонал, как задергается под конец весь его организм, включительно с радикулитной поясницей, и частенько делала потом хорошему человеку полный фронтальный массаж всей его левой ягодицы – сам же и научил. По рецепту его собственной бывшей жены, ее в ленинградской блокаде бомбой убило вместе с детьми. А теперь спрашивается: кто ж ему, больному-то человеку, массаж сделает – ласковой девичьей рукой-то? Вот ведь как в жизни обернуться может – из-за собственных же дурацких слов, – это следует подчеркнуть. В подштанниках теперь так где-нибудь и воюет, уже рядовым штрафбата. А может, уже и вылечила ему радикулит навсегда пуля – немецкая ли, своя ли – какая разница! Главное, в самом начале ночи его забрали, Мухе заодно и выспаться удалось. Так что два, получается, добрых дела сделала, двух зайцев убила разом. Все по-справедливому, по-честному. Сталин-то как сказал раз-навсегда? Как раз им-то и сказал, нытикам подобным гнилым, предателям, которые наши принципы и фронтовую дружбу, кровью омытую, почему-то стремятся до сих пор расшатать. Так и сказал он им всем: «Не ешь кошку на Рождество, не погань праздник!» В пословицу даже вошло у народа, потому что уж слишком крылатое выражение, прямо не в бровь, а в глаз!
Так и прикидывала про себя Муха, какой у него будет видок, у Ростислава, с мокрыми его щеками, когда два дюжих смерша выйдут сейчас из-за той вон толстой елки разлапистой да и скрутят ему руки назад, – это тебе не у маменьки в Кондопоге морошку моченую лопать с блинами, вслепую-то недожаренными да подгорелыми. А Муха ему еще и перцу на хвост, как говорится: «Не ешь кошку на Рождество!…» Жаль только, на этот раз барашек-то не в подштанниках, а по форме одетый, в погонах даже, как заправский офицер. Глаза б на него не глядели, на ревнивое такое Отелло! Вот ведь за горло схватил – напрочь свободы лишить хочет, в единоличное пользование забрать, превратить активистку в свою индивидуальную овцу, бляха-муха!
Муха вдруг обняла его голову, пока что еще, слава богу, к плечам крепко привинченную, да и поцеловала ее, дуру предательскую, прямо в губы. Еще и укусила при этом – чтоб знал!
Отскочила, конечно, сразу же. Стыдно стало ей – жуть! Первый раз в жизни ведь! Провалиться бы! Главное, неожиданно, без предупреждения оно вышло, как будто и не она сама это сделала, а изнутри ее кто-то подтолкнул, – разыграл исподтишка. Совсем уже до ручки дошла из-за стихов каких-то ташкентских, из-за газеты бумажной. Да ей же цена – подтереться! Эх, бляха-муха!…
А Ростислав – вот удивительно! – даже как будто и не заметил поцелуя. Когда Муха от него отпрянула и за сосну спряталась, – одним глазом только наблюдение вела за Овецким, – он лишь башкой своей, на ниточке уже фактически висящей, потряс, как спросонья, – и дальше давай стихи наизусть шпарить. Да все одно и то же, одно и то же, заладила сорока: жди, жди, жди… Причем глядит не на Муху, наоборот – на луну. Астроном Склифосовский! Муха фыркнула и тоже, конечно, на луну уставилась.
А луна-то на тот момент времени в аккурат выказалась из-под дурацких своих черных туч – белая, как мишень в тире. Как будто бы из глубины черной пещеры выход светит, освещает нависшие своды. Вот плутала ты, будто, плутала по лабиринтам, с огарком свечи малюсеньким, спотыкалась о камни, от мышей летучих шарахалась, чудачка, натыкалась на острые углы, а выход-то вон он, рядом был всегда, не за тем поворотом искала. Ну так беги же к нему. Лети! Ведь ты умеешь, ничего тебе и не стоит, только закрыть глаза – и там, на свободе, там сияет для тебя белый-белый день, чистый снег, ясное зимнее солнышко, – и белым-бело вокруг, свет праздника, Новый год, наверное, мандарины на елке, и мама рядом, и папочка, и Люся, конечно, у себя в уголке тоже тихонько радуется упругому мандарину маленькому, – лети же, Муха, ведь не только же во сне ты Чайка, верно? Что не слышно приказа? Дайте добро, товарищ генерал! Где вы там? Ведь и ради простой человеческой жизни тоже можно, наверное, немножко полетать, если, тем более, службе-то не в убыток, военной-то тайне не в ущерб, так ведь?
Молчание.
Свет луны – до рези в глазах, до звона. И уже наплывают, накрывают ее белый край тучи, заваливают узкий выход. Ну? Ну же! Мы и в щелку протиснемся, только б успеть. Мы ненадолго, на три минутки, буквально. Только туда – и сразу же обратно. Ведь не сегодня-завтра в рай Ростиславу отбывать, оттуда уж не вернется. Вот и была б о нем добрая память – совместный мирный полет, три минутки без всякой войны, без губ слюнявых, без дрожи трусливой и правильных стихов, – просто вырвались бы вдвоем, надышались хоть раз тем чистым светом, в один бы вздох оба его вдохнули, – пусть потом хоть под пули, хоть под бомбу одну на двоих. Ведь что здесь-то хорошего, по эту-то сторону? Как же тут можно кого-то любить по-настоящему – на войне, во лжи вечной, где ни один человек другому не верит и уже привык, иной жизни не знает… Нет, все лучшее – там, только там собрано, во сне, где цветы поют… Ну? Что вам, жалко, что ли, товарищ генерал? А?
Тучи луну засыпали, подмяли, завалили глыбами назема. Умолк свет.
И так обидно Мухе, еще обидней стало, что Ростислав на нее не обращает внимания. Что в последние свои денечки мимо глядит и даже поцелуя не заметил, хотя столько дней сам же добивался и клянчил.
И она снова поцеловала его, чудака, в губы. И почувствовала: оборвалось сердце и задрожало на ниточке последней. А луна снова ослепила ее до слез – опрокинул ее Ростислав – и свет пошел в нее и пронзил, и ударил внутри колокол – как из пушки. Она не могла шевельнуться. Губы его пили гул ее колокола тайного – удар за ударом, – и смешивалось у нее в груди биенье двух жизней, и луна стала уже теплой, как молоко в стакане, парное. Муха услышала, как внутри нее кто-то сказал: «Ну все, бляха-муха!…»
– А ты боялась! – сказал Ростислав, помогая ей подняться с земли. – Я же говорил, я всегда умею собой владеть. Вот и поцеловались, видишь? Теперь ты – моя невеста, луна свидетель…
Так и не расстегнул он ее ремень в тот вечер. А ведь мог бы! Сама бы и рассупонилась, только бы дал понять. Не дал – баран!
Уже вторую неделю, с той первой с ним ночи, когда Муха произвела Ростислава юного в мужики, а потом проснулась с талией уже как бы старорежимной, до того яростно перетянутой праведною десницей своего хранителя, ремень сей брючный, брезентовый, для него самого оставался свято неприкосновенным. В землянку к Мухе лейтенант не Совецкий являться принципиально избегал. Чинно приглашал возлюбленную на прогулку в лес, как правило после ужина, и под сенью дерев, взяв ее деликатно под ручку, пламенно и вольно набрасывал перед невестой стратегически обеспеченные планы мирного и плодотворного их супружества в уютном пятистенке на окраине Кондопоги, изобильной грибами, морошкою, клюквой, пушным зверем и рыбою красной. Окнами на озеро Онего! С геранью на подоконнике и пятью пуховыми, мамашей вслепую от души взбитыми мировыми подушками в изголовье высокой кровати со специальной резной скамеечкой – лестницей для беспрепятственного вскарабкивания юной жены на бездонную, легчайшего лебяжьего пуха перину – вместо жесткого топчана. Муха сначала хмыкала. Потом заскучала. А там и привыкла, вошла во вкус и стала с жаром, перенятым у безумствующего в добровольном монашестве барашка, возражать ему при обсуждении художественных деталей кружевного узора на грядущих салфетках, полотенцах и простынях, а также скорых и неизбежных чепчиках двух румяных, ядреных, как боровички, близнецов, отменным славящихся аппетитом. На единственного потомка Ростислав не соглашался ни в какую, вдохновленный, видимо, Мухою же и измышленным виденьем двуполногрудой своей мадонны и до обморока полнокровно представляя себя обоими сладострастными сосунками разом.