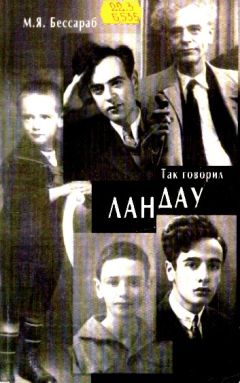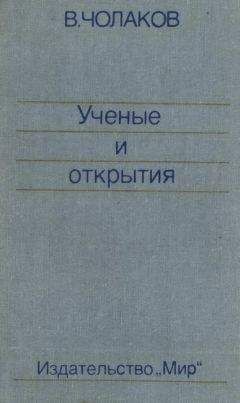Владимир Солоухин - Ледяные вершины человечества
– Да ты почему, старая, знаешь, что это он?– закричала Анна, как в безумстве.
– Окстись, окстись скорее, милая. Осени себя крестным знамением. Да разве я тебе говорила, да разве знаю, кто это был? Мало ли тут народу. Город. Два заводища. Да станция – проходной двор. Что видела, то и говорю. А насчет чего другого – надо тебе, милая, в городскую моргу.
В морге Анне показали желтые, почти совсем не ношенные ботинки, и она грохнулась без памяти на цементный жесткий пол.
Вот что случилось у нас недели две назад. Василия раскопали, конечно, привезли в село и похоронили с районной музыкой. Каждый принимал какое-нибудь душевное участие в этой истории еще до ее развязки. Каждый пришел и на похороны. Отголосили, отпричитали. Земляничная, хвойная, ромашковая тишина снова установилась над маленьким, в елочках да сосенках спрятавшимся кладбищем. Тропинка к нему узкая, торная в сухую погоду белая, а в дождичек глинисто-красная среди мелкой зеленой травы.
Старуха шла впереди меня по этой тропинке в галошах на толстые шерстяные носки. Галоши были велики. Они, может быть, и спадали бы, если бы пешеходка приподымала ноги. Но она двигала ногами по земле, шмыгала ими на полступни. Мне нужно было либо останавливаться, либо обгонять.
Я думал, что, увидев меня, постороннего человека, узнав, что ее слушают, старуха смутится, перестанет причитать и выть. Но бредущая к могиле не обратила на меня ровно никакого внимания. Она продолжала разговаривать с сыном:
– Иду вот. Миленький ты мой. Неужели ты подумал, я к тебе не приду? Каково тебе было не видеть меня, когда опускали в сырую землю. Каково тебе было, миленький ты мой. Иду, иду к тебе. Немного осталось. Подожди, потерпи, миленький ты мой.
Я далеко обогнал плачущую женщину и первым вошел в сосенки. Меня обдало тем настоем смолы, хвои, земляники, горьковатых каких-то трав, перегретого мха и солнечной сухости, который держится только в летний полдень, именно в таких вот небольших, прогреваемых солнцем лесочках. В матером бору, наверно, было бы иначе.
На крохотной полянке, сплошь заросшей розовыми кошачьими лапками, я опрокинулся навзничь, раскинул руки, и лесная тишина вновь устоялась надо мной, как устаивается вода после брошенного в тихий омут камня.
Я лежал так довольно долго. Впечатления от только что прочитанной книги и от только что услышанных материнских причитаний странно перепутывались у меня в голове. Нет, я согласен на всеобщую великую гармонию, если останутся, конечно, такие вот сосновые островки, пусть даже вблизи человеческих, дорогих нам могил. Волнует другое. Вдруг получится так, что все будут довольны, просветленно радостны, торжественно и стерильно разумны, а у меня – слеза. Изобретем ли мы какой-нибудь облучающий агрегат, какой-нибудь там генератор счастья, который мог бы аннулировать, ликвидировать и, более того, профилактически предупредить мою глупую, пошлую, отсталую, мою консервативную слезу? Потому что, если у меня слеза да у другого слеза, получаются – слезы. А если слезы, где же всеобщая гармония?
Или вот. Сюда, где я лежу и в общем-то отвлеченно размышляю, бредет не отвлеченная, а настоящая живая старуха… Восьмидесятилетняя мать, у которой так глупо и так трагически погиб единственный сын. Она идет и воет на всю округу. Ей больно. Мы, не побывавшие в матерях, теряющих молодых сыновей, не можем и представить себе, как ей больно. «Человеческий разум может все», – довольно безответственно написано в этой книжке. Отчего же, научившись черт знает чему, мы не умеем очень простого и очень нужного – успокоить боль скорбящего материнского сердца? Вот я, человек сравнительно цивилизованный. Слышал о красном смещении, о спектральных анализах, более того, человек, по профессии своей считающийся в некотором роде сердцеведом. С чем, с какими словами я подойду сейчас к скорбящей, чем утешу ее? Да я же абсолютно бессилен, как трехлетний ребенок, который взялся поднимать двухпудовую гирю. Сына нет. Но она сейчас говорит с ним как с живым. От этого разговора, от мнимой близости сына боль разгорается все сильнее и сильнее. Вправе ли я вообще вмешиваться в их беседу? Или, может быть, сказать ей, что это все бред, идеалистическая чепуха? Есть кусок гниющего мяса, с которым разговаривать бесполезно?
Между тем причитания и вой бедной женщины снова стали доноситься до меня. Значит, она додвигала наконец до сосенок.
Мне не трудно было угадать, когда она подошла к могиле, потому что по мере того, как она подходила к ней, голос ее становился все отчаяннее, пронзительнее и жутче. Можно было точно сказать по нарастанию голоса: вот она вошла в ворота кладбища, вот она увидела холмик, вот она опустилась на траву рядом с ним…
Я подошел поближе и сел на пенек. Может, оно и нехорошо, но мне хотелось послушать.
– На кого ты обиделся, дорогой ты мой? Как тебе не жалко белого света? Ты погляди-ко на белый-то свет. Птички поют, ягодки в траве краснеются, цветы все стоят не шелохнутся, которые желтые, а которые белые. А мимо поля-то я шла – васильки светятся. Как тебе не жалко белого света? На кого ты обиделся, что ты с собой наделал!
Около часу мать разговаривала с погибшим сыном. Я сначала все не мог определить, что же главное в ее разговоре, что так приражает постороннего слушателя, потом догадался: да она же абсолютно верит, что Василий слышит ее голос, что он где-то тут, рядом с ней в лесочке, и только не дано ему оказать себя. Пожалуй, было бы даже жестоко с моей или с чьей-нибудь любой стороны логически доказывать старухе, что никакого Василия больше нет, ни вдали, ни поблизости, и что весь он, с памятным матери детством, со смехом и привычками, складом характера и ума, весь он теперь не более чем гниющее отвратительное мясо. Да, пожалуй, это было бы жесточе и бесчеловечнее, и, главное, зачем? Какой в этом смысл?
Наговорившись с сыном, старуха нашла иного собеседника. Теперь она не называла больше Василия ни дорогим, ни миленьким.
– Господи! Прости ты его, окаянного. Прости ты его, дурака неразумного, сгоряча он это все наделал. Уж очень, значит, его обидели. Не собирался он покидать белый свет. Тесу навозил избу обшивать. Яблони сажал в огороде, терновник колючий вырубил. Господи, дай ты ему хоть какое-нибудь местечко. Пусти ты его хоть с краешку. Ведь много ли ему надо. Прикажи кому-нибудь – пусть подвинутся, и присядет он с самого краешку, мешать никому не будет. Было бы ему тепло и светло. Было бы сухо ему, окаянному.
Нельзя сказать в точности, как представлялось матери это сухое и теплое местечко. То ли действительно краешек скамейки, на которой сидят прощенные, то ли лужайка под деревьями, то ли учреждение. Но представлялось ей что-то конкретное и определенное, какая-то, видимо, дверь, куда могут пустить или не пустить ее сына. И то нужно учесть, что в старину самоубийц и не хоронили на общих кладбищах, а по другую сторону ограды, в отрешенности, в стороне.
Не успокоившись на хлопотах перед «Самим», мать решила поговорить с другой матерью, думая, что женщина женщину поймет скорее и лучше.
– Матушка, Заступница наша, куда идти, кому пожаловаться? Или ты не знаешь, каково хоронить последнего сына? Или ты не лила материнских слез? Как станут определять моего окаянного – направо ему идти или налево, как начнут его толкать в котлы кипящие, во тьму вечную, замолви ты свое материнское словечко. Человек он тихий и добрый. Курицы бессловесной не обидит, гулящую кошку и ту накормит. Пустите вы его хоть с краешку, дайте ему хоть плохонькое местечко. А мастер он на все руки: и топором подтесать, и рубанком подстругать, и гвоздь забить, и дров нарубить. Матушка-Заступница, ни о чем не прошу, замолви перед судьями тихое словечко.
Просительница долго еще что-то говорила, но голос ее становился все тише, все ровнее, спокойнее, и наконец она с какой-то умиротворенностью и – это меня поразило больше всего – с какой-то даже радостью произнесла: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе». Потом поднялась и так же тихо, едва переступая, но уже без слез и завываний побрела домой.
Вот так раз! Ведь в эту «славу» входит и то, что сын ее бросился под поезд. Потому что, по ее понятиям, все совершается по воле Божьей. За это и ополчиться бы на Бога, взбунтоваться бы, накричать бы, грозя кулаками куда-то кверху…
Я ее обогнал не той же тропинке, когда она подбредала к селу. В глазах ее, правда, стояли слезы, но во взгляде не было ни боли, ни крика. Только губы шевелились в беззвучной уж теперь, но в той же самой благодарной молитве.
Значит, что же, думал я, значит, ее ужасные сердечные раны, до которых я не посмел бы дотронуться, потому что не умею и не надеюсь их залечить, утихли сами собой? Значит, там, где были бы бессильны атомная физика, нейрохирургия и кибернетика, нужнее всего оказалась ее слепая, темная вера? Какая нелепость!
У нас есть всякие умопомрачительные специалисты, но отчего же нет специалистов – вровень с техникой двадцатого века – по сердечным болям и радостям?..