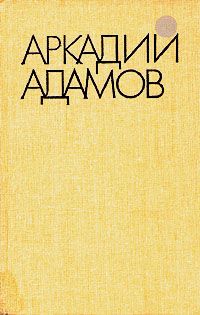Эдгар По - Разговор между Моносом и Уной
Уна. – Да, я вспоминаю теперь эти разговоры, мой милый Монос; но эпоха разрушительного огня не была, ведь, настолько близка, как мы это воображали, и как разрушение, о котором ты говоришь, позволяло, конечно, нам этому верить, люди жили и умирали постепенно, поодиночке. Ты сам хворал и был схоронен в могиле, и твоя верная Уна не замедлила последовать за тобою; и хотя наши уснувшие чувства не мучились нетерпением и томились длиною века, который протек с тех пор, и финал которого возвратил нас друг другу, однако, милый Монос, на это ушел, ведь, целый век!
Монос. – Скажи лучше, – точка на бесконечном пространстве. Бесспорно, я умер уже во время дряхлости земли. С сердцем, утомленным и истерзанным муками, шедшими от общей неурядицы и разрушения, я умирал в жестокой лихорадке! – После нескольких дней страдания и после нескольких дней бреда, смешанного с грезами и экстазом, которые ты принимала за выражение горя, между тем как я лишь мучился своим бессилием вывести тебя из заблуждения, – после нескольких дней я, как ты сказала, впал в бездыханное и неподвижное оцепенение, и окружавшие меня сказали, что это – смерть.
Странная вещь – слова! Состояние мое не лишало меня сознания. Оно не казалось мне особенно отличным от внешнего спокойствия человека, заснувшего крепким и глубоким сном, неподвижно лежащего в изнурении в жаркий летний солнечный день и потом медленно, еле заметным образом приходящего в сознание единственно в силу того, что он достаточно спал, а отнюдь не потому, что был пробужден каким-нибудь внешним обстоятельством.
Я более не дышал. Пульс был неподвижен. Сердце перестало биться, воля хотя и не исчезла, но была без действия, чувства мои были чрезвычайно деятельны, хотя настолько эксцентричны, что зачастую одно злоупотребляло функциями другого и притом совсем наудачу. Вкус и обоняние слились у меня в какую-ту неразложимую смесь, образуя одно ненормальное, но сильное чувство. Розовая вода, которою ты в своей нежности в последние минуты смачивала мои губы, давала моему воображению приятные представления о цветах, цветах фантастичных, бесконечно прекраснейших, чем цветы, бывшие на нашей старой земле, и образцы которых мы видим растущими теперь кругом нас. Веки, призрачные и бескровные, отнюдь не препятствовали зрению. Так как воля оставалась в праздности, глазные яблоки не могли вращаться в своих орбитах, но, тем не менее, все предметы, находившиеся в области видимой полусферы, были видны более или менее ясно. Лучи, которые падали на внешнюю сторону ретины, или в угол глаза, производили более, живое действие, чем те лучи, которые ударяли во внутреннюю поверхность, или падали на лицо. Но, в первом случае, действие их было так ненормально, что я считал его за звук, звук приятный или нестройный, и сообразно с ним предметы, представлявшиеся мне с моей стороны, были освещенными, или покрытыми тенью, круглыми, или угловатыми. В то же время слух, хотя и стал чересчур чутким, однако не имел в своем действии ничего иррегулярного и оценивал реальные звуки столь же чрезвычайно преувеличенно, сколько и чрезвычайно тонко. Игра на инструменте подвергалась довольно своеобразному видоизменению. Ее впечатления получались поздно, как бы упорно задерживались, и поэтому всегда приносили удовольствие чисто физического характера. Так, легкое прикосновение твоих милых пальцев к моим векам сначала было чувствуемо органом зрения; затем, долго спустя, после того, как они были отняты, прикосновение это наполняло все мое существо бесконечным чувственным наслаждением. Я сказал «чувственным наслаждением», потому что мои ощущения были чисто чувственного характера. Что же касается материалов, передаваемых чувствами пассивному мозгу, то мертвое понимание их не воплощало их ни в какую реальную форму. Здесь было немного боли и много страстности, но страданий, или наслаждений нравственных здесь не было и тени. Таким образом, твои порывистые всхлипывания раздавались в моих ушах со всеми своими жалобными оттенками, и воспринимались моим слухом со всеми вариациями твоей печали; но это были приятные музыкальные звуки – и только; они не давали угасшему рассудку ни малейшего намека о тех скорбях, которые их породили, и между тем, как потоки слез в обилии и не переставая падали на мое лицо и служили для всех присутствовавших ясным доказательством сокрушенного сердца, каждый фибр моего существа, казалось, был переполнен одним только восторгом. И это была, действительно, Смерть, о которой присутствовавшие говорили тихим, почтительным шепотом, – а ты, моя дорогая Уна, голосом, содрогающимся от конвульсий, громко рыдала.
Меня стали одевать, чтобы уложить в гроб, какие-то три-четыре мрачные фигуры, с деловым видом шмыгавшие взад и вперед по комнатам. Когда они пересекали прямую линию моего взора, они представлялись мне имевшими форму, но когда они проходили стороною, их образы переводились в моем воображении в крики, стоны и иные печальные выражения страха, ужаса или страдания. Одна ты, одетая в белое платье, одна ты, в каком бы ты направлении ни шла, всегда как-то особенно приятно и звучно шуршала вокруг меня.
День клонился к вечеру, а, когда наступили сумерки, мною овладело какое-то неопределенное беспокойство, какая-то тоска, похожая на то состояние, когда человеку во сне чудятся ясные и печальные удары колокола, удары протяжные, торжественные, с продолжительными, неравномерными промежутками, навевающие на его душу какие-то меланхолические грезы. Наступила ночь, а вместе с ее тенями – и тяжкое отчаяние. Тяжелым бременем давило оно на все мои члены и было легко осязаемо. Здесь был также какой-то заунывный звон, почти в роде эхо морского прибоя, но более продолжительный, так как, начавшись с ранних сумерек, он продолжался даже и с наступлением ночи. В комнату был вдруг принесен свет, и тотчас же протяжное эхо прекратилось и перешло в частые и неправильные взрывы этого самого звона, но менее заунывного и менее внятного. Сокрушающее давление в значительной мере облегчилось, и я чувствовал, как из пламени каждой лампы (ибо их было несколько) выходило монотонное, но мелодичное пение и, не переставая, лилось в мои уши. И когда ты, дорогая Уна, подойдя к постели, на которой я лежал, грациозно села возле меня, и, дыша благоуханьем, поцеловала меня в лоб, в моей груди поднялось что-то трепещущее, что-то перемешанное с обыкновенными чувствами чисто физического характера, что-то родственное самой чувствительности, чувство, наполовину оценивавшее твою пламенную любовь и твою скорбь и лишь наполовину отвечавшее им; но чувство это не имело корней в сердце, уже переставшем биться, и оно скорее казалось тенью, нежели действительностью: оно быстро исчезло и сменилось сначала полнейшим спокойствием, а затем удовольствием чисто чувственного характера, каким оно было раньше.
И тогда, из уничтожения и хаоса естественных чувств, казалось, возникло во мне новое, совсем готовое чистое чувство. В его отправлениях я находил какое-то странное наслаждение, наслаждение, во всяком случае, характера физического, так как сознание тут не принимало ни малейшего участия. Движение в животном существе прекратилось окончательно. Ни один нерв не содрогался, ни одна артерия не трепетала. Мне казалось, что в моем мозгу зародилось что-то такое, о чем уму чисто-человеческому нельзя дать даже смутного понятия. Позволь мне определить это так: это было нечто похожее на колебания часового маятника. Это было нравственное олицетворение абстрактного человеческого понятия о Времени. Вследствие абсолютной равномерности этого самого движения, или чего-нибудь подобного установились правильные окружности небесных миров; с помощью этого чувства я измерял неправильные уклонения стенных часов и карманных у присутствовавших в комнате. Их тикание отчетливо и звучно проникало в мой слух. Малейшие уклонения от правильного такта, – а эти уклонения были весьма часты, – тревожили меня совершенно так же, как при жизни: мое нравственное чувство волновалось от нарушения отвлеченной правды. Хотя в комнате не было и двух колебаний, которые бы согласовались в своих секундных ударах, однако я без всякого затруднения удерживал в уме своем тембр каждого из них и их относительную разницу. И это чувство продолжительности, живое, современное, существующее само по себе, независимо от совокупности каких-либо фактов (вещь для человека, быть может, непонятная), эта мысль, это шестое чувство, происшедшее из моего разрушения, было первым чувствительным и решительным шагом бессмертной души на порог Вечности.
Была полночь, и ты все еще сидела возле меня. Все другие ушли из комнаты Смерти, положив меня в гроб. Лампы горели, еле мерцая. Это отдавалось во мне каким-то дрожанием монотонных песен. Но вдруг эти песни уменьшились в чистоте и объеме. Наконец, они совсем замерли, а вместе с ними в моем обонянии замерло благоухание. Мне не виделись более никакие образы. Грудь моя освободилась от бремени мрака. Глухое содрогание, как будто от электрической искры, проникло мою грудь и сопровождалось полнейшим исчезновением идеи осязания. Остававшееся еще оттого, что человек разумеет под именем чувства, слилось в одно сознание бытия и в одно неразложимое чувство времени. Бренное тело было наконец сокрушено рукою безжалостного Разрушения.