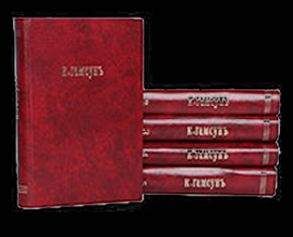Кнут Гамсун - На отмелях близ Нью-Фаундленда
Одинъ изъ негровъ, котораго мы называли "докторомъ", потому что когда-то въ молодости онъ нѣкоторое время изучалъ медицину, былъ также въ нее влюбленъ; въ то время, какъ онъ мнѣ въ этомъ признавался, я охотно убилъ бы его на мѣстѣ изъ ревности, такъ какъ и я былъ влюбленъ не менѣе его.
Но она сама, грязная, неряшливая и тупая, продолжала жить среди насъ, ничего не замѣчая и не видя. Она не удостоивала насъ даже взгляда, Какъ-то разъ я былъ чѣмъ-то занятъ на верхней палубѣ, гдѣ она въ то время сидѣла на складномъ стулѣ, безсмысленно уставясь въ одну точку; и вотъ я споткнулся о швартовое мотовило и чуть было не растянулся. Это меня до того разозлило, что я обернулся и такъ глупо и безсознательно уставился на причину моей неловкости, что, надо полагать, представлялъ изъ себя весьма-таки смѣшную фигуру. Отчего же она не посмѣялась надо мною? Къ чему же тогда ей было смотрѣть на меня такъ, какъ она смотрѣла, если не для того, чтобы посмѣяться? Но она была совершенно апатична, и ни одинъ мускулъ ея лица даже не дрогнулъ. — Она заживо гніетъ, — говорилъ ванъ-Таценъ на своемъ смѣшномъ языкѣ. — Видитъ Богъ, она заживо гніетъ.
И все же никто изъ насъ ни за какія блага не хотѣлъ бы лишиться ея общества.
Когда рыба была вычищена и всѣ удильные крючки вновь закинуты, тогда наша дневная работа оканчивалась, и мы проводили часъ или два за ѣдой и куреньемъ. А затѣмъ отправлялись по койкамъ.
И вотъ тогда, если мы бывали не слишкомъ утомлены нашимъ дневнымъ трудомъ, мы немного болтали между собой и даже принимались разсказывать всевозможныя исторіи, выражаясь грубымъ, неправильнымъ языкомъ, пересыпая разсказъ проклятіями и скверными, грязными словами…
Французъ зналъ какую-то исторію о человѣкѣ, который не могъ "видѣть ни одной женщины безъ вожделѣнія". И эту исторію онъ разсказывалъ уже много разъ и всегда съ одинаково большимъ успѣхомъ. Русскіе были прямо-таки въ восторгѣ отъ его разсказа и смѣялись безъ конца, слушая его. Удовольствіе, съ которымъ они выслушивали этотъ грубый разсказъ, было такое же искреннее и чистосердечное, какъ у дѣтей; они строили всевозможныя гримасы, безпорядочно кидались и метались въ своихъ койкахъ. — Ну что же, — спрашивали они все время, — ну, какъ дальше, и чѣмъ это все кончится? — Между тѣмъ, они прекрасно знали, такъ же, какъ и мы всѣ, чѣмъ кончался разсказъ,
Ванъ-Тацену, напротивъ, не везло съ его исторіей, такъ какъ мы очень рѣдко соглашались его слушать. Мы очень плохо понимали его: онъ такъ мало зналъ по-англійски, къ тому же еще страшно коверкалъ и то немногое, что зналъ. Среди какого-нибудь объясненія, когда онъ, такъ сказать, безнадежно застревалъ, пытаясь яснѣе выразить свою мысль, онъ начиналъ безпомощно оглядываться на насъ всѣхъ, не зная, чѣмъ и какъ помочь себѣ. И право, въ такія минуты онъ бывалъ достоенъ жалости.
Ванъ-Таценъ былъ самый старшій изъ голдандцевъ, настоящая старая свинья, порядочно-таки глухой, но въ общемъ очень добродушный и услужливый человѣкъ. У него изъ ушей всегда, во всѣ времена года, торчали клочки ваты огромные клочки, совсѣмъ пожелтѣвшіе отъ времени и неопрятности. У него была необыкновенно тяжеловѣсная фигура. Море превратило его въ совершеннаго ребенка. Онъ ничего не видѣлъ дальше своего носа и ни о чемъ не думалъ. Лежа на койкѣ, онъ курилъ свой крѣпкій табакъ и преспокойно плевалъ на полъ каюты или куда попало. Онъ всегда начиналъ свой разсказъ слѣдующими словами:
— Это было какъ-то вечеромъ въ Амстердамѣ,- говорилъ онъ. — Да, это было какъ-то вечеромъ въ Амстердамѣ. Я какъ разъ тогда завербовался на корабль, и это былъ мой послѣдній вечеръ на сушѣ. Я не помню, который былъ часъ, но знаю, что было уже поздно. Когда я, наконецъ, вышелъ изъ пивной, чтобы отправиться на корабль, я прежде всего сталъ засучивать свои панталоны. Да, да, я это отлично помню, но въ общемъ я былъ болѣе, чѣмъ пьянъ, и, засучивая панталоны, потерялъ равновѣсіе и упалъ на колѣни. Затѣмъ я кое-какъ добрался до Леопольдгатенъ, и тамъ произошло нѣчто, что меня просто поразило, потому что я уже не былъ пьянъ, когда ее увидѣлъ. Она стояла позади меня среди улицы. Да, вѣрьте мнѣ или нѣтъ, но это была дама.
И старый глупецъ приподнимался на своей койкѣ и смотрѣлъ на насъ.
— Дама, да, настоящая дама, знатная дама, — повторялъ онъ.
Но когда онъ доходилъ до этого главнаго пункта своего разсказа, его словарь истощался, и онъ уже не могъ двинуться съ мѣста.
— Какъ, настоящая дама стояла позади тебя на улицѣ въ Амстердамѣ? — иронически спрашивалъ его "докторъ".
— Да, дама, — восторженно отвѣчалъ голландецъ и смѣялся во весь ротъ.
Онъ до такой степени бывалъ возбужденъ своимъ разсказомъ, что начиналъ клясться въ томъ, что говоритъ правду и что это была, дѣйствительно, настоящая дама. Мы всѣ дружно смѣялись надъ нимъ. Онъ пробовалъ продолжать разсказъ, но это было невозможно. Онъ дѣлалъ самыя страшныя усилія, напрягалъ свой жалкій мозгъ, чтобы найти слова, которыя могли бы намъ уяснить суть этого разсказа, но попытки его оказывались тщетными, и онъ умолкалъ. А между тѣмъ, ему страшно хотѣлось поговорить именно объ этомъ пунктѣ, и вотъ, когда онъ, такъ сказать, былъ весь поглощенъ воспоминаніями о дамѣ и приходилъ въ отчаяніе оттого, что не находилъ подходящихъ выраженій, онъ вдругъ разражался цѣлымъ потокомъ какихъ-то странныхъ словъ, которыхъ никто изъ насъ не могъ понять, за исключеніемъ его земляка, громко храпѣвшаго на сосѣдней койкѣ.
Таковъ былъ разсказъ ванъ-Тацена, и онъ всегда оканчивался одинаково и на томъ же мѣстѣ. Мы очень часто слышали его, и всегда онъ начинался съ вечера въ Амстердамѣ. Это было весьма возможное и вѣроятное происшествіе, и никто изъ насъ не сомнѣвался въ этомъ.
Затѣмъ мы молча лежали нѣкоторое время и раздумывали надъ слышаннымъ, въ то время какъ окружающее насъ море шумѣло, а лампа освѣщала нашу каюту, мѣрно покачиваясь въ своемъ мѣдномъ кольцѣ. И вахтенный шагалъ въ своихъ деревянныхъ башмакахъ по палубѣ надъ нашими головами. Потомъ наступала ночь.
Но иногда около полуночи я просыпался, задыхаясь отъ тяжелыхъ испареній, исходившихъ отъ всѣхъ этихъ человѣческихъ тѣлъ, сбросившихъ съ себя во снѣ одѣяла. Лампа освѣщала грубыя фигуры въ сѣрыхъ шерстяныхъ рубашкахъ. Русскіе съ ихъ длинными тощими бородками напоминали спящихъ моржей.
Съ каждой койки раздавались полузаглушенные слова и стоны. Негры скрежетали бѣлыми зубами, громко повторяли одно и то же имя и надували свои черныя щеки.
Съ койки младшаго голландца слышалось среди какого-то клохтанья и сдавленнаго смѣха все то же имя, затѣмъ сильный храпъ и жалобное стенанье, — и это было имя жены шкипера. Всѣ только и думали о ней. Эти грязныя животныя говорили о ней даже во снѣ, каждый на своемъ языкѣ. Они всѣ лежали съ закрытыми глазами, храпя и бормоча самыя безстыдныя слова, улыбались, стонали и высовывали языки. Одинъ только ванъ-Таценъ спалъ спокойнымъ, здоровымъ, мирнымъ сномъ, точно безсловесное животное.
Острый, спертый воздухъ каюты, табачный дымъ, запахъ человѣческаго пота, — все это смѣшивалось въ противныя, тяжелыя испаренія. И эти испаренія давили меня и заставляли меня закрывать глаза, едва я ихъ открывалъ. И я вновь засыпалъ, и огромный уродливый цвѣтокъ наваливался на меня, всасывалъ свои мокрые листочки и стебли въ мою грудь, постепенно, мѣрно и безпощадно сдавливалъ мое горло, и я утрачивалъ сознаніе всего…
А затѣмъ являлся вахтенный и будилъ меня.
1905