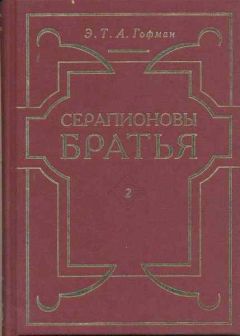Эрнст Гофман - Поэт и композитор
Фердинанд. Но кто лучше тебя сумеет вникнуть в твои музыкальные искания?
Людвиг. Должно быть, ты прав. Однако мне порою кажется, что на душе у композитора, вознамерившегося излагать стихами задуманный им оперный сюжет, — что на душе у него должно быть примерно так, как у живописца, которого принуждали бы поначалу изготовлять трудоемкую гравюру на меди, а затем уже живыми красками рисовать образ, зачатый его фантазией.
Фердинанд. Ты полагаешь, что необходимый для сочинения музыки пыл весь изойдет искрами и испарится, пока композитор рифмует свои строки?
Людвиг. Разумеется! Так это и будет. В конце концов мои стихи покажутся мне чем-то вроде бумажных гильз от вчерашних ракет, что разлетелись во все стороны, треща и прогорая… А если говорить серьезно, то мне представляется, что в музыке более, чем в каком-либо другом искусстве, для успеха сочинения необходимо, чтобы целое схватывалось с пылу с жару, вместе со всеми своими частями и мельчайшими деталями, потому что всякое оттачивание и вылизывание в музыке хуже и вреднее всего. Я ведь по собственному опыту знаю, что самая лучшая мелодия — та, что словно по мановению волшебной палочки пробуждается при чтении стихотворения. Для композиторского замысла она, быть может, даже единственно истинна. Сочиняя стихи, музыкант не мог бы не увлекаться музыкой, которую вызывает сама же драматическая ситуация. До конца захваченный музыкой, думая лишь о мелодиях, плывущих к нему, композитор напрасно мучился бы над словами, а если бы ему и удалось принудить себя силой, то мелодический поток, только что бушевавший и гнавший перед собой высокие волны, очень скоро ушел бы в бесплодный песок пустыни. Еще более определенно выскажу тебе глубочайшее свое убеждение: в миг музыкального вдохновения любые слова, любые фразы показались бы композитору бледными, жалкими, ни на что не годными, и ему пришлось бы сходить с высот своего вдохновения лишь затем, чтобы просить подаяния в низшей сфере слов. А ведь здесь ему быстренько подрежут крылья — словно плененному орлу, — и никогда уж не сможет он взлететь к солнцу!
Фердинанд. Недурно сказано; но веришь ли, что в моих глазах ты не столько убеждаешь меня, сколько оправдываешь свое нежелание прокладывать себе путь к музыкальному творчеству через все эти неизбежные сцены, арии, дуэты и прочее?
Людвиг. Пусть так. Зато я повторю свой прежний упрек: почему же ты сам, раньше, когда мы были связаны единым художественным устремлением, так и не пожелал удовлетворить мою заветную мечту и не сочинил для меня оперы?
Фердинанд. Вот почему: я считаю это самым неблагодарным занятием на свете. Сознайся, нет людей более своенравных в своих требованиях, нежели вы, композиторы, и если ты утверждаешь, что нельзя ожидать, чтобы музыкант выучивал приемы, необходимые в ремесле стихотворца, то и я, со своей стороны, полагаю, что для поэта слишком уж обременительно заботиться о точном исполнении всех ваших пожеланий, о строении терцетов, квартетов, финалов и всего остального, тогда как в противном случае поэт, как это, к сожалению, всегда и происходит, каждый миг будет погрешать против общепринятой формы. Хотя почему она всеми принята, это уж знайте сами. Хорошо, мы с величайшим напряжением души стремимся наполнить подлинной поэзией всякую сцену, стремимся живописать любую ситуацию самыми восторженными словами, самыми совершенными стихами, а тогда больно и страшно видеть, что вы немилосердно вычеркиваете самые лучшие стихи, измываетесь над самыми блестящими словами, переставляя и перекраивая их по собственному разумению, просто топя их в звуках… Это я говорю лишь о напрасных усилиях тщательной работы над текстом. А теперь скажу и о сюжете: он возникает перед нами в состоянии поэтического вдохновения, и мы гордимся им, полагая, что теперь-то осчастливим вас, — однако вы категорически отвергаете его, заявляя, что он вовсе не пригоден и недостоин того, чтобы его украшала музыка. Но это простое упрямство — что же еще? — потому что иной раз вы хватаетесь за тексты, которые страшнее смерти, и…
Людвиг. Остановись, друг мой! Есть, конечно, композиторы, которым музыка столь же чужда, как поэзия виршеплетам. Вот они-то и перелагают на музыку стихи, которые сквернее скверного. Однако истинные, всею душою своей погруженные в великолепную, священную музыку композиторы — те избирают лишь поэтичные тексты.
Фердинанд. А Моцарт?
Людвиг. Моцарт для своих классических опер всегда выбирал тексты, подлинно отвечавшие духу музыки. Некоторым это покажется парадоксом… Однако оставим сейчас это в покое; вообще говоря, я считаю, что можно очень точно определить, какие сюжеты подходят для оперы — так, чтобы поэт никогда уже не боялся ошибиться.
Фердинанд. Признаюсь, никогда не задумывался над этим, а поскольку мои познания в музыке слабы, то не было и повода для подобных размышлений.
Людвиг. Если под познаниями в музыке ты подразумеваешь школьный курс музыки, то, чтобы верно судить о потребностях, какие испытывает композитор, в нем нет нужды. Ведь и без этих школьных знаний можно так изведать самую сущность музыки и так заключить ее в свою душу, что далеко до этого будет музыканту, корпевшему в поте лица своего над полным курсом со всеми его лабиринтами, а теперь славящему, словно животворящий дух, мертвое правило деревянного истукана. Подобное идолопоклонство и отнимает у музыканта блаженство его рая.
Фердинанд. Так ты считаешь, что поэт способен проникать в подлинную сущность музыки, даже не будучи рукоположен школой?
Людвиг. Вот именно! Да! В том дальнем царстве, что порой окутывает душу чудными предощущениями, что посылает к нам на землю дивные голоса и будит в скованной груди спящие в ней звуки — они, словно огненные фонтаны, внезапно поднимаются к небесам, радостно ликуя, и мы приобщаемся тогда к блаженству рая, — в том дальнем царстве и поэт, и музыкант принадлежат к одной церкви, ибо тайна слова и тайна звука — одна, и не что иное, как эта тайна открывается пред ними, если они рукоположены в самый высший сан.
Фердинанд. Слышу голос любезного Людвига, стремящегося в глубоких речениях постичь таинственную суть искусства, и вот уже исчезают пространства, которые, казалось мне, разделяют поэта и музыканта…
Людвиг. Позволь мне высказать свое мнение о подлинном существе оперы. Говоря коротко: подлинная опера — та, в которой музыка проистекает непосредственно из поэзии, выступая как непременное ее произведение.
Фердинанд. Сознаюсь, пока еще не совсем понимаю.
Людвиг. Разве музыка — не таинственный язык дальнего царства духов, чудесным вздохам которого вторит наше нутро? Тогда-то и пробуждается в душе высшая, полная напряжения жизнь. Страсти — в блестящих, ослепительных доспехах — тонут в переполняющем нашу душу невыразимом томлении. Таково неизреченное действие инструментальной музыки. Однако вслед за тем музыке пора целиком вступать в жизнь, она обязана схватить все явления жизни и, украшая слова и дела, говорить о вполне определенных страстях и поступках. Так можно ли твердить о пошлом на языке величественных слов? И может ли музыка провозвещать нечто иное, нежели чудеса страны, откуда доносятся до нас ее звучания? Итак, поэту время снаряжаться в полет, и этот смелый полет занесет его в дальнюю страну романтического. Там во всем блеске свежих красок обретет он чудесное, что должен будет принести с собою назад, в жизнь, так, чтобы все верили ему, так, чтобы мы, отлетая от жалкой обыденной жизни, словно в блаженном сновидении бродили по цветочным аллеям романтической страны и разумели лишь ее язык — слова, звучащие для нас музыкой.
Фердинанд. Выходит, ты защищаешь лишь романтическую оперу — с феями, духами, чудесами, превращениями?
Людвиг. Во всяком случае я считаю романтическую оперу единственно правдивой, потому что родина музыки — романтическое царство. Впрочем, поверь мне, — я в высшей степени презираю те жалкие поделки, в которых перед нами являются бестолковые и нелепые духи, громоздятся чудеса без причины и следствия — все только, чтобы позабавить взор праздной толпы. А подлинно романтическую оперу способен создать лишь гениальный, вдохновенный поэт, ведь только он приносит в нашу жизнь чудесные явления царства духов и только на его крыльях мы переносимся через пропасть, отделяющую нас от этого царства, — поселившись в чужой стране, мы начинаем верить чудесам, какие зримо творятся на наших глазах вследствие непременного воздействия высших натур на наше бытие и создают все те мощно овладевающие нашей душой ситуации, которые наполняют нас то ужасом, то упоением и блаженством. Одним словом, в распоряжении поэта, который изображает чудесное, должна находиться волшебная сила поэтической правды, и только она одна способна увлечь нас за собою, но холодными и безучастными оставит нас нелепый фарс — капризная цепь бесцельных волшебств: они, как это подчас бывает, нужны лишь для того, чтобы дразнить паяца, переодевшегося оруженосцем. Итак, друг мой, в опере высшие существа должны зримо воздействовать на нас, перед нашим взором должно разворачиваться романтическое бытие, сам язык должен возвыситься, или, вернее говоря, он должен заимствоваться в том дальнем царстве и становиться музыкой, пением; тут даже действия, ситуации, воспаряя перед нами в могучих звучаниях, сильнее овладевают нами и увлекают нас за собой. Вот так и музыка должна проистекать непосредственно и непременно из поэзии, как я и утверждал.