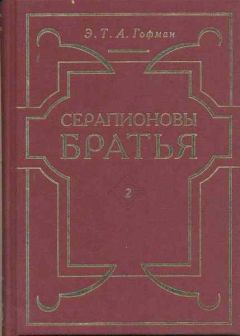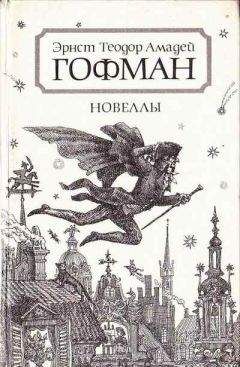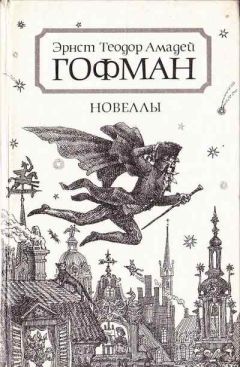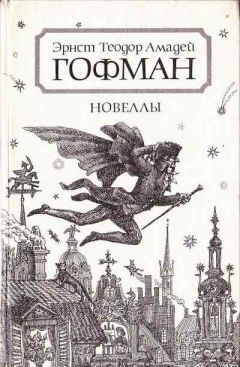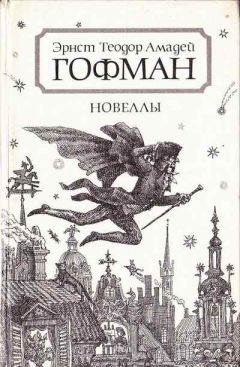Эрнст Гофман - Отшельник Серапион
— Да, это так, — молвил Серапион, побледнев, в глазах его сверкнул мрачный огонь. — Да, это так, но сей мученик ничего общего не имеет с тем монахом, который в припадке неистового аскетизма восстал против самой природы. Я и есть тот мученик Серапион, о котором вы говорите.
— Как! — воскликнул я в притворном изумлении. — Вы считаете себя тем самым Серапионом, который много сотен лет назад погиб столь ужасным образом?
— Вам это кажется невероятным, — совершенно спокойно продолжал Серапион, — и я допускаю, что мои слова могут показаться удивительными всякому, кто не видит дальше своего носа. Но как бы там ни было — это так, всемогущий Бог позволил мне вынести все мои муки, ибо его премудрый промысел определил, чтобы я еще некоторое время пребывал здесь, в Фиванской пустыне, ведя угодный Господу образ жизни. Лишь сильная головная боль и ломота в суставах изредка напоминают мне о перенесенных страданиях.
Тут я решил, что настало время приступить к задуманному мной лечению. Я начал издалека и повел ученую речь о недуге, именуемом навязчивой идеей, который порою настигает человека и, подобно одной-единственной фальшивой ноте, нарушает чистейшую гармонию всего организма. Я упомянул о некоем ученом, которого нельзя было убедить встать со стула, ибо он боялся выбить носом стекло у соседа на противоположной стороне улицы; об аббате Моланусе, который обо всем рассуждал вполне здраво, но не решался выйти из комнаты, чтобы его не склевали куры, ибо считал себя ячменным зерном. Затем я перешел к тому, что нередко в нашем сознании происходит подмена собственного «я» каким-либо историческим лицом. Не может быть ничего безрассуднее, бессмысленнее, продолжал я, чем считать небольшой лес в двух часах ходьбы от Б***, где ежедневно бывают крестьяне, охотники, проезжие, просто гуляющие, Фиванской пустыней, а самого себя — фанатиком веры, много веков назад приявшим мученическую смерть.
Серапион молча слушал меня, казалось, он почувствовал убедительную силу моих слов, и в нем происходила какая-то глубокая внутренняя борьба. Я подумал, что настал момент для решающего удара; вскочил, схватил Серапиона за руки и громко воскликнул:
— Граф П***, очнитесь от пагубного помрачения, затмившего ваш разум, сбросьте это гадкое одеяние, вернитесь к вашей семье, скорбящей о вас, к обществу, которое предъявляет на вас свои законные права!
Серапион устремил на меня мрачный, пронизывающий взгляд, потом на его губах мелькнула саркастическая усмешка, и он произнес медленно и спокойно:
— Милостивый государь, вы говорили долго и, как вам казалось, прекрасно и мудро, позвольте же теперь мне сказать вам в ответ несколько слов. — Святой Антоний, все мужи церкви, покинувшие мир и удалившиеся в пустыню, часто подвергались искушению со стороны мерзких духов тьмы[10], которые, завидуя душевной умиротворенности избранников божьих, осаждали и мучили их, пока не оказывались посрамленными, поверженными во прах. Со мной дело обстоит ничуть не лучше. Время от времени ко мне являются люди, подстрекаемые дьяволом, которые пытаются внушить мне, что я граф П*** из М. и сманить меня в мир суеты и всяческого зла. Когда не помогала молитва, я брал их за плечи, выталкивал вон и тщательно запирал свой садик. Я и с вами, сударь, чуть было не поступил так же. Но в этом нет надобности. Вы совершенно очевидно самый немощный из всех моих противников, и я побью вас вашим же собственным оружием, то есть оружием рассудка.
Уж коли речь зашла о безумии, то из нас двоих вы страдаете этим недугом в гораздо большей степени, нежели я. Вы утверждаете, что у меня навязчивая идея — считать себя мучеником Серапионом, и я прекрасно знаю, что так думают многие или делают вид, что думают. Но если я и впрямь безумен, то надо поистине быть сумасшедшим, чтобы надеяться путем убеждения избавить меня от навязчивой идеи, порожденной безумием. Ведь будь такое возможно, во всем мире не осталось бы ни одного безумца, ибо человек мог бы повелевать умственными способностями, которые не суть его достояние, а лишь временное владение, врученное ему высшей силой, властвующей над нами. Если же я не безумен и на самом деле мученик Серапион, то опять же — глупая затея переубеждать меня и внушать мне навязчивую идею, будто я граф П***, призванный к свершению великих дел.
Вы говорите, что мученик Серапион жил много столетий назад и, следовательно, я не могу им быть — вероятно, потому, что люди не живут так долго. Но, во-первых, время такое же относительное понятие, как и число, и я могу вам возразить, что по моему внутреннему ощущению времени прошло каких-нибудь три часа или как вы там еще измеряете время, с тех пор как император Деций велел меня казнить. Далее, если отвлечься от этого, вы можете выдвинуть против меня лишь тот довод, что столь долгая жизнь, на каковой я настаиваю, беспримерна и противоречит человеческой природе. Но разве вы исчислили жизнь каждого отдельного человека, существовавшего на нашей обширной земле, чтобы столь дерзновенно произносить слово «беспримерный»? Неужели вы приравниваете всемогущество господне к жалкому искусству часовщика, который не в силах спасти от порчи мертвый механизм? Вы утверждаете, что место, где мы находимся, не Фиванская пустыня, а небольшой лес в двух часах ходьбы от Б*** и здесь ежедневно бывают крестьяне, охотники и прочие люди. Докажите мне это!
Тут-то я и поймаю его, подумал я.
— Идемте, — воскликнул я. — Идемте со мной, через два часа мы придем в Б***, и все то, что я утверждаю, будет доказано.
— Несчастный, ослепленный глупец! — произнес Серапион. — Какое расстояние отделяет нас от Б***! Но допустим, я последую за вами в город, который вы называете Б***, сможете ли вы убедить меня, что мы действительно шли только два часа и что место, куда мы пришли, действительно Б***? А если я стану утверждать, что это вы, охваченный безумием, принимаете Фиванскую пустыню за лесок, а далекую Александрию за южнонемецкий город Б***, что вы сможете на это возразить? Этот вечный спор никогда бы не кончился и был бы пагубным для нас обоих. И еще об одном серьезно подумайте! Вы не могли не заметить, что тот, кто с вами беседует, ведет спокойную, радостную, примиренную с Господом жизнь. Такая жизнь расцветает в нас только после выстраданного мученичества. Если высшей силе было угодно набросить покров на то, что происходило до этого мученичества, разве не дьявольская, бессовестная жестокость отдергивать этот покров?
Со всей своей премудростью я стоял перед этим безумцем смущенный и пристыженный! Он наповал сразил меня умозаключениями, выведенными из своей мании, и мне внезапно открылась вся безмерная глупость моей затеи. Более того, я почувствовал в его последних словах упрек, который поразил меня тем сильнее, что в нем смутно проступало, как высший неуязвимый дух, сознание прежней жизни.
Серапион, по-видимому, заметил мое состояние, он посмотрел мне в глаза с выражением самого чистого, искреннего участия и молвил:
— Я сразу подумал, что вы не такой уж злобный искуситель, так оно и есть на самом деле. Вполне возможно, что кто-нибудь другой, а то и сам черт попутал вас искушать меня, вы же не имели в виду ничего дурного, и, быть может, только потому, что я оказался совсем не таким, каким вы представляли себе отшельника Серапиона, укрепились в своих сомнениях, которые и высказали мне. Я нимало не отступаю от благочестия, какое подобает человеку, всецело посвятившему себя Господу и церкви, но мне глубоко чужд тот аскетический цинизм, в который впали многие мои собратья, доказав этим вместо пресловутой силы духа свою внутреннюю немощь и очевидное умственное расстройство. Если бы вы застали меня в том гнусном, мерзком состоянии, какое уготовили сами себе эти одержимые фанатики, вот тогда вы бы могли обвинить меня в безумии. Вы ожидали найти монаха Серапиона, того циничного монаха, бледного, изможденного ночными бдениями и голодом, с застывшим ужасом и страхом во взоре, навеянными отвратительными сновидениями, которые доводили до отчаяния святого Антония, с трясущимися коленями, едва держащегося на ногах, в грязной, окровавленной рясе, — а застали спокойного, бодрого человека. Да, и мне суждено было испытать муки, которые сам ад зажег в моей груди, но когда я очнулся с растерзанными членами, с размозженной головой, дух озарил все мое внутреннее существо и исцелил душу и тело. Пусть небо ниспошлет тебе, о брат мой, уже на этой земле спокойствие и бодрость, которая укрепляет и питает меня. Не страшись уединения, оно одно раскрывает благочестивой душе просветленную жизнь.
Произнеся последние слова проникновенным тоном истинного священнослужителя, Серапион умолк и поднял просветленный взгляд к небу. Мне стало не по себе — да и могло ли быть иначе? Этот безумец превозносил свое состояние как бесценный дар неба, только в нем находил спокойствие и бодрость и с искренней убежденностью желал мне того же!