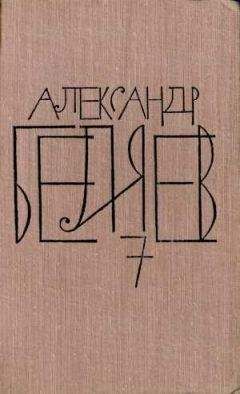Анатолий Санжаровский - Оренбургский платок
Волосы я наверх расчёсывала.
Была у меня коса толстая, чать, ниже пояса. Ну прямушко вот так! В косе лента сегодня одна, назавтра другая.
Женихи вкруг меня вились, как пчёлы у свежего цветка с мёдом.
Тогда женихи были ой да ну! Не то что лишнего слова сказать – рта боялись открыть.
Какой я, девка-ураган, на них гипноз имела, досегодня понять не могу.
Был у меня Лёня.
Высокий такой, красивый, глаза весёлые. А сам стеснительный-стеснительный.
Он пас стадо. Я звала его пастух мой овечий.
Идёшь на посиделки, а нарядишься вроде на свадьбу.
Короткая, тоненькая веретёшка уткнулась носом в блюдечко на коленях, вертится без шума. Прядёшь... Что мне прясть? Пряли б волки по закустью да мне б початки знай подносили. Только чтото не несут. Надо самой прясти. Прядёшь пух, а сама раз за разом только зырк, зырк, зырк в шибку. Не замаячил ли?
Пора бы и придти – ребят всё ни одного.
Грустно так станет да и затянешь.
По части песен, частушек я была оторвибашка. Самолично всё сочиняла. Большая была песельница.
Голос у меня сильный. С первого класса до замужества пела в церковном хоре на клиросе. Пела в клубе.
Запечалимся да и заведём всем девишником:
– Пряди, пряди, веретенце,
Пряди, не ленись.
Вейся, вейся, нитка, тоньше,
Тоньше и не рвись.
Чтоб свекровка – злая мать
Не могла сказать:
«Нитки толсты, нитки плохи,
Не умеешь прясть...»
А ребят всё нет как нет.
С вечора не должны б забыть дорогу.
Может, заблудились?
Ну и блудите!
И давай их продёргивать в подергушках-повертушках[2] . Не надобны нам такие раздушатушки!
– Ах, бывало, вкруг милова
Я, как веточка, вилась.
А теперя, как водичка,
От милова отлилась.
За Лизой чудит Федюня:
– Через Мишу свет не вижу,
Через Петю хлеб не ем.
Через Васю дорогого
С ума спятила совсем.
А Луша:
– Куплю ленту в три аршина,
К балалайке привяжу.
Тебе, милый мой, на память,
А я замуж выхожу.
А Фёкла:
– Треплет, треплет лихорадка,
Треплет милова мово.
Затрепи его сильнее
За измену за ево.
А Маруся:
– Ты не стой у ворот,
Не приваливайся.
За тебя я не пойду,
Не навяливайся.
Не отламывала жали и я своему Лёне.
Как гаркну не на всё ль Жёлтое:
– Невесёлый нынче вечер:
Не пришёл пастух овечий!
А грешила.
Не было вечера, чтоб не пришёл.
Задержится, глядишь, со стадом. А пойди петь про него, а как зачни душа душу звать – вот он уже спешит-идёт, каблучками стёжку жгёт, вот уже на пороге, заносит скорую весёлую ноженьку через порожек и улыбается, улыбается. Да не один, с дружками да с гармошкой.
Всвал покидают девчата в угол спицы, клубки, веретёна! Ой, устали! Погляньте, как устали! Ой, отдыхать!
Задуют лампу да и айдатеньки в проминку по Жёлтому с песнями под гармошку.
Парубки затягивают первой свою наилюбимую.
У Лёни была своя любимая песня. Вот эта... Правда, сам он не пел, всё стеснялся. А вот послушать любил...
– Ветер по полю шумит,
Весь казак в крови лежит
На кургане головой,
Под осокою речной;
Конь ретивый в головах,
А степной орёл в ногах...
«Ах, орёл, орёл степной,
Побратаемся с тобой.
Ты начнёшь меня терзать
И глаза мои клевать!
Дай же знать про это ей,
Старой матери моей.
Чуть начнёт она пытать,
Знай о чём ей отвечать.
Ты скажи, что вражий хан
Полонил меня в свой стан,
Что меня он отличил
И могилой наградил.
С сыном ей уже не жить
И волос ему не мыть.
Их обмоет ливень гроз,
Выжмет досуха мороз,
И расчешет их бурьян,
И раскудрит ураган.
Ты не жди его домой,
Зачерпни песку рукой
Да посей, да поджидай,
Да слезами поливай,
И когда посев взойдёт,
Сын на родину придёт!»
Побрались за руки. Невспех идём себе, идём...
Кто поёт, кто подпевает. А кто и пенье милованьем слади?т...
Не беда, какая парочка споткнётся, приотстанет.
Через минуту-две нагоняют. Рады-радёшеньки, сияют.
Поцелуй нашли!
А у меня с робким Лёней – ну тишкину мать! – ни находок, ни разговору. А так... Одни междометия... горькия...
А каюсь...
В корявой башке моей всё свербела сладкая теплиночка:
«Миленький мой Лёнька,
Мой хороший Лёнька,
Ты за талию меня
Потихоньку тронь-ка!»
Да куда!
Мысли мои он читать не мог и на самом близком отстоянии. А по части троганий и вовсе не отважистый был. Крепче всего выходило у него багровое молчание. По лицу вижу, край зудится что сказать, да рта открыть смелости Боженька не подал...
А и то ладно. А и то сердцу отрада...
Погуляем с часочек, там и снова делу честь.
5
Изнизал бы тебя на ожерелье
да носил бы по воскресеньям.
Стоял теплый май.
Цвели ромашишки.
Из села Крюковки – это такая дальняя даль, где-то на Волге, под Нижним, – наехали мастеровые строить нам станцию.
Был там один дружливый гулебщик с гармошкой. Исподлобья всё постреливал. А наведу на него смешливый свой глаз – тут же отвернётся.
Поначалу отворачивался, отворачивался. Потом и перестань.
Подступается, шантан тя забери, с объяснением.
– Говорю я, Нюра, прямо... Человек я простой...
– Что простой, вижу. Узоров на тебе нету.
– Знаешь, Нюра, как ты мне по сердцу...
– Кыш, божий пух! – смеюсь. – Кыш от меня!
– Чать, посадил бы в пазуху да и снёс бы в Крюковку...
– Ой, разве? Чирей тебе на язык за таковецкие слова!
– Да-а... Такая к тебе большая симпатия. Не передам словами...
– А чем же ты передашь-то? Гармонией?
– Нет. И гармонией не могу. – Осклабился, только зубы белеют.
– Тем лучше. Ничего не надо передавать. У меня и без тебя есть парень!
А он, водолаз, напрямки своё ломит:
– Ну и что ж, что парень. Он парень, и я парень.
Заложил Михаил начало.
Стал наведываться на посиделки.
Играл на гармошке трепака, казачка. Плясали как! Будто душу тут всю оставили...
Сормача играл...
Играл всё старые танцы.
А мы знай танцевали. Хорошо танцевали. Не то что ноне трясогузки трясутся да ногой ногу чешут.
Как ни увивался, не посидела я и разу рядком с нижегородской оглоблей. Так я его звала, хоть был он невысок.
Построили крюковские нам новую станцию.
По лицу здания, поверх окон, из края в край во всю стену написал Михаил толстой кистью чёрно: «Этот дом штукатурил Блинов Михаил Иванович в 1928 году» (как пойду в лес за ягодами, увижу, вспомню всё, наплачусь – тонкослёзая стала), написал и объявился ввечеру на посиделках. Манит эдак пальчиком на улицу.
– Нюронька! А поть-ко, поть-ко сюда-а...
– Ну!
Я как была – на крыльцо.
Иду, а он загребущие глазищи свои бесстыжие и на момент не сгонит с меня. От девчат мне дажь совестно.
– Оглобелька, – в мягкости подкручиваю, – ну ты что уставился? Глазики сломаешь...
– Не бойся, не сломаю.
– Ну, ты зачем пришёл?
– Попусту, Нюронька, и кошка на солнце не выходит.
– С кошкой дело ясное. А ты?
– А что ж я, глупей кошки?
– Тебе лучше себя знать. Так что там у тебя?
– А всё то жа... Я те, Нюронька, гостинчик принёс...
И достаёт из пузатенького кулька одно круглое печеньице.
В опаске протягивает – не беру.
– Брезгуешь? Я и не знаю, как тя и потчевать, Нюронька...
Вывалил весь кулёк на стол под яблоней.
Я и не подошла к тому печенью.
Видит он такой оборот, покачал головой, вздохнул да и побрёл к куреню, где квартировали крюковские.
6
Девичье нет не отказ.
Через недельку так нашла я копеечку орлом.
К письму.
Почтарка в тот же день исправно занесла.
Первый писать решился я Вам невольно:
Любовь заставила меня.
Она уж давит сердце больно,
Прошу выслушать меня.
Зачем я поздно встретил Вас?
С тех пор нигде не нахожу веселья...
И так далей.
Всё письмо вот в такущих в стихах. Ну полный тебе колодец слёз!
Слёзная картинка.
Не думала, что любовь и штукатуров делает стихоткачами.
Потом – пустая голова ну хуже камня! – скачнулся засылать из своего Оренбурга подарки. Духи, пудру, платок шёлковый, башмаки козловые...
Я всё смеялась на его письма. Написала и сама одно. Мол, не пиши и дажь не мечтай. Я не кукла-дергунчик, не томоши боль меня.
Но до него моё письмо не добежало. Перехватил женатик попович. Соседец наш.
Крутощёкий попович уже и ребятёнка сладил на свой образец. Двугодок сын рос.
А при встречах попич отдувался и не забывал всё петь мне про свои симпатии.
– Знаешь, хорошуля, когда ты проходишь мимо окна, всё во мне холонет. Я дажь ложку роняю за обедом. Так вот... тому давно... как люблю тебя...
– Крепше держи, – шуткой отбивалась я.
А намедни какую отвагу себе дал! Эвона куда жиганул! Возьми храбродушный да и брякни: