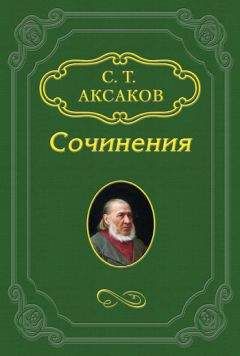Иво Андрич - Разговор с Гойей
Мы создаем формы, как какая-то иная природа, останавливаем юность, удерживаем взгляд, который «в жизни» уже несколько мгновений спустя меняется или угасает, улавливаем и выхватываем молниеносные жесты, которые никто бы не увидел, и оставляем их во всем их таинственном значении взглядам будущих поколений. И не только это. Каждый жест и каждый взгляд мы чуть заметно усиливаем на один штрих или на один нюанс. Это не преувеличение, не ложь и не меняет, по существу, изображаемый феномен, но живет подле него, как неприметный, но постоянный знак и доказательство того, что создание это вторичное и ему предстоит более долговечная и значительная жизнь и что чудо созидания произошло лично в нас. По этому усилению, которым отмечено каждое художественное творение, как неким следом таинственного взаимодействия между природой и художником, видно демоническое происхождение искусства. Существует легенда, будто антихрист, если он придет на землю, будет творить то же, что сотворил бог, только с большим искусством и совершенством. У его пчел не будет жала, и его цветы не станут так быстро увядать, как увядают наши. Тем самым он привлечет алчных и легковерных. Возможно, художник есть предтеча антихриста. Возможно, тысячи и тысячи нас «играют в антихриста», подобно ребятишкам, играющим в войну.
Если бог создал и вылепил формы, то художник создает их на свой страх и риск и заново утверждает; он фальсификатор, но бескорыстный, инстинктивный, а потому опасный. Таким образом, художник является создателем новых, подобных, но не идентичных явлений и иллюзорных миров, которые с наслаждением и гордостью могут созерцать глаза людей, но в которые при более близком соприкосновении они мгновенно проваливаются словно в бездну ничтожества.
Это была великая теория моего друга Паоло, итальянца, в жилах которого текла славянская кровь. Нужно обладать его склонностью к фантазиям и мистике, чтоб все это вот так увязать. Для меня это было любопытно тем, что можно, оказывается, создавать и раскрывать миры выше и ниже той плоскости, на которой ты живешь сам. Совершенно иначе скроенный и сшитый, я никогда не мог постигнуть его способ восприятия и выражения. Ибо и тогда, как и сейчас, я твердо знал, что существующий мир – единственная реальность и что лишь наши инстинкты и неодинаковые реакции наших органов чувств создают впечатление многоликости явлений, в которых воплощается эта единственная реальность в виде, на первый взгляд, особых миров, отличных по своей сути. Однако ничего этого нет. Существует лишь одна реальность с вечными приливами и отливами известных нам лишь частично, неизменно вечных законов.
При желании впасть в ошибку и произвольно заменить причины следствиями я мог бы для тезиса Паоло об антихристовом призвании художника-творца найти новые и более веские доказательства. Но из этих фактов я не стал бы делать подобных выводов. Я вообще избегаю каких-либо выводов. Однако я вижу факты. Паоло говорил: художник проклят, ибо, как видите, он таков и таков. Я ограничиваюсь констатацией: художник таков и таков. И здесь я во всем согласен с ним.
– У меня в доме жила с матерью маленькая Росарито. (При этом имени старик опустил свой пронзительный взгляд, и на его сомкнутых веках появилась дымка тумана.) Однажды, когда ей было пять лет, я подслушал разговор между нею и одним мальчиком, который только что пошел в школу и хвастался своими познаниями.
– А ты знаешь, кто создал людей? – спросил он.
– Людей? Знаю, дядя Франсиско, – отвечала девочка, указывая на портреты, висевшие в моей мастерской.
Хвастливый мальчуган словно бы вдруг забыл свой катехизис и, заикаясь, пробормотал:
– Бог… бог их создал.
При этом он не сводил глаз с окружавших его портретов, а девочка, показывая ему то одно, то другое лицо, победоносно повторяла перед каждым из них:
– Дядя Франсиско… дядя Франсиско…
В цирке, возникшем на пустыре возле кафе, загремели трубы и барабаны. Пожилой господин умолк. Некоторое время он слушал, не проявляя ни раздражения, ни нетерпения. Инструменты утихали. Осталась лишь какая-то писклявая труба. Под ее звуки старик снова заговорил тихо и отчетливо.
– Для меня цирк – самая пристойная форма театра. Он – наименьшее зло в этом большом зле. В каждом публичном выступлении словно бы есть что-то запретное и постыдное. Когда я был моложе, мне частенько снилось, будто я играю на какой-то сцене, перед невидимой, но строгой и многочисленной публикой, и все время со страхом спрашиваю себя, как это я, незваный и неподготовленный, попал на сцену. И должен исполнять роль, которую даже не успел прочитать и из которой не знаю ни слова.
Невозможно передать, как мучителен такой сон. А я его видел довольно часто.
В жизни мне доводилось сталкиваться и с театром и с актерами. И всякий раз я убеждался, что театр – самое бессмысленное из всех наших усилий. Когда я так или иначе соприкасался со сценой и актерами, я не мог избавиться от отчаянного чувства бесплодности и спрашивал себя: не есть ли ничтожность театра лишь отражение того, что ожидает рано или поздно любое искусство? Когда я вижу медовые соты, сделанные из картона, небрежно размалеванные, которые в какой-нибудь опере горцы преподносят лесному божеству, на другой день у меня пропадает желание есть и рисовать. Дни и ночи меня преследует образ этого мертвого, хуже, чем мертвого – неродившегося предмета, который одинаково далек и от иллюзии и от действительности. И если задаться целью найти символ для театрального искусства, я бы взял эти картонные соты. Жалкий реквизит, который сотни раз пытался сыграть роль меда в глазах людей и сотни раз снова возвращался в ящик для реквизита, грязный, никчемный, ненужный.
Даже в лучших театрах пыль и грязь. Призвание артиста самое тяжкое и самое жалкое из всех призваний. Поэтому им так необходимо развлекаться, играть в карты, есть и пить, словно они приговоренные к смерти узники, и это их последнее пиршество.
Я хорошо был знаком с одной актрисой… (Здесь пожилой господин что-то прошамкал, будто для себя одного произнося ее имя, веки его сомкнулись, и вокруг глаз снова сгустилась дымка тумана.)
Это была прекрасная женщина, человек большого сердца и большой души во всем, что не касалось театра. Я ходил в театр ради нее, хотя для меня было подлинной мукой видеть ее на сцене. Однажды, сидя в первом ряду, я заметил, как во время спектакля длинный шлейф ее белого платья зацепился за невидимый гвоздь в полу. Она почувствовала это, но продолжала играть дальше, отчаянно дергая ногой и пытаясь освободиться. Эти жалкие движения попавшего в западню беспомощного животного, которое произносило высокопарные стихи, обливаясь холодным потом, и в глазах которого сверкал безумный страх провала и скандала, словно при свете молнии, показали мне всю тщету этого вида искусства. Более того, довольно долго это отравляло огромную радость, которую доставляла мне дружба с этой чудесной и незабвенной женщиной.
– Мне часто говорили, говорили и писали, будто у меня чрезмерная и нездоровая склонность к мрачным предметам, жестоким двусмысленным картинам. Это твердили изустно и письменно с тем равнодушием, бессмысленностью и бездумностью, с которыми люди совершают большинство своих дел.
Одно время – до войны в Мадриде – мужчины и женщины, разговаривая со мной, украдкой разглядывали мои руки, словно желая убедиться, «те самые» ли это руки. Ходили слухи, я знаю, будто я рисую ночью с помощью нечестивого и будто я страдаю пороками, ни название, ни суть которых неизвестны, хотя дьявольское их происхождение очевидно. А между тем во всей Испании не было более скромного, робкого и нормального, да, нормального человека, чем я.
Здесь любопытно не то, что обо мне думали и что говорили, это важно лишь как пример непонимания искусства. А мне легко объяснить мою позицию.
Все жесты человека порождены потребностью нападения или защиты. Это главная, в большинстве случаев позабытая, однако подлинная и единственная причина и побудительная сила. Природа же искусства такова, что невозможно передать тысячу мелких жестов, каждый из которых сам по себе не является тяжелым или зловещим. Но любой художник, который поставит себе целью рисовать то, что рисовал я, вынужден будет изобразить совокупность всех этих многочисленных жестов, и на этом сгустке жестов необходимо и неизбежно будет стоять печать их подлинного происхождения – нападения и защиты, гнева и страха. И чем больше в каждом из них вобрано и слито движений, тем оно выразительней и картина убедительнее. Вот почему в моих картинах позы и движения людей мрачны, часто зловещи и жутки. Потому что, по существу, иных жестов и нет.
Можно возразить, что есть изящные художники, которые писали лишь идиллические картины и образы, полные легкости и беззаботности. Встречается в жизни и такое, я сам, бывало, иногда это рисовал, но для каждой такой позы, освобожденной от инстинкта страха и настороженности, необходимо несколько миллионов целеустремленных и активных движений, дабы они поддерживали и защищали ее неестественную и недолговечную красоту и свободу. Вообще говоря, прекрасному неизменно сопутствует или тьма человеческой судьбы, или блеск человеческой крови. Не следует забывать, что каждый шаг ведет к могиле. Уже одного этого достаточно для оправдания. И это, по крайней мере, никто не может отрицать.