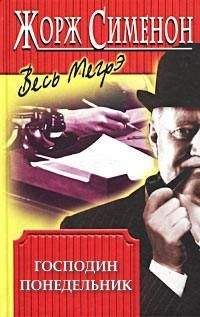Жорж Роденбах - Выше жизни
После этого обращения к народу раздался крик, и в то же время кем-то был сделан жест в первых рядах собравшейся толпы… Через минуту древняя дверь проскрипела на своих петлях: человек вошел.
Толпа заволновалась, стала беспокоиться, что-то разглашать. Никто ничего не знал. Что должно произойти? Разве состязание окончилось? Разумеется, ни один из выслушанных конкурентов не будет избран. Может быть, неожиданно кто-нибудь еще записался? Каждый узнавал, поднимался, спрашивал соседей, смотрел по направлению к балкону и площадкам башни, где трудно было различить, были ли это человеческие силуэты или вороны.
Вскоре большой колокол прозвонил еще раз свои три удара, предварительный знак, традиционный залп, возвещающий нового музыканта!
После того как толпа ждала и отчаялась, она лучше прислушивалась, в особенности потому, что на этот раз колокола, играя нежно, требовали большого молчания. Начало было тихим, неясным; в нем не различались отдельные колокола, чередовавшиеся или смешивавшиеся, но слышался целый стройный бронзовый концерт, как бы очень далекий и очень старый. Мечтательная музыка! Она приходила не из башни, но гораздо дальше, из глубины неба и глубины времен. Этому музыканту пришла мысль сыграть древние рождественские песни, фламандские рождественские напевы, создавшиеся в народе и являющиеся его отражением. Это было серьезно, немного печально, как все то, что пережило века. Это было очень старо, и между тем понятно даже детям! Что-то очень отдаленное, очень неопределенное, точно происходящее на границе безмолвия, но воспринятое всяким, перешедшее в душу каждого… Глаза у многих затуманились, так что нельзя было понять, были ли это слезы или тонкие серые, капли звуков, входившие туда…
Весь народ был потрясен. Безмолвный и задумчивый, он чувствовал, как развертывается по воздуху туманная нить его мечтаний, и ему нравилась именно эта туманность.
Когда окончилась серия старых рождественских напевов, толпа оставалась одну минуту безмолвной, как будто она проводила в мыслях, в царство Вечности, добрых предков, какими были на этот раз колокола, пришедшие передать им историю прошлого и запутанные рассказы, которые каждый может окончить по-своему…
Затем раздался взрыв криков, отражавших общее волнение, выражений радости, которые неслись кверху, достигали этажей, громоздились, как черный плющ, на башню, доходили до нового саrillionneur'а.
Это был неожиданный конкурент, случайный, появившийся в последнюю минуту!.. Огорченный посредственностью состязания, он вдруг поднялся на башню, в стеклянную комнату, где он часто навещал своего друга престарелого Бавона де-Воса. Не он ли теперь должен был заменить его?
Что делать? Надо было заиграть другой отрывок. Рождественские напевы это были маленькие старушки, попадающиеся на дорогах истории, монахини, коленопреклоненные на краю воздуха. При помощи их народ, ожидавший там, внизу, возвращался к лучшим временам своей славы, к кладбищу своего прошлого… Он готов был теперь на героический поступок.
Музыкант вытер лоб, сел за клавиши, приводившие его в смущение, как церковный орган, — с педалями для больших колоколов, в то время как маленькие приводились в движение проволоками, поднимающимися от клавишей… точно нити для плетения музыки.
Колокола снова начали играть. Послышалась песнь о Фландрском Льве, старая народная песнь, известная всем н безыменная, как сама башня, как все, что заключает в себе целую расу. Столетние колокола словно молодели, повествуя о доблести и бессмертии Фландрии. Это был, действительно, призыв льва, пасть которого, как у льва священного писания, была полна пчел. Некогда каменный геральдический лев возвышался на башне. Казалось, что он вернется вместе с этим пением, столь же древним, как и он сам, и выйдет из башни, как из пещеры. На Большой площади, при заходящем солнце, зажигавшем свои последние огни, золотой лев на доме Воuchote казался сверкающим, живым: а напротив каменные львы у дома губернатора увеличили свою тень, падавшую на толпу… Фландрский лев. Это был крик славы гильдий и торжествующих корпораций. Его считали как бы навсегда спрятанным в сундуках, окованных железом, где сохранялись хартии и привилегии древних князей в одном из залов башни… И вот теперь старая песнь воскресла. Фландрский лев! Песнь, напоминающая своим ритмом движение народа, похожая по размеру на мелочи, одновременно воинственная и человечная, — точно лицо в забрале…
Толпа слушала, задыхаясь. Никто даже не знал, звонили ли это колокола, и каким чудом сорок девять колоколов в башне сливались в один, — исполняя песнь единодушного народа, в которой серебристые колокольчики, тяжелые колеблющиеся колокола казались теперь детьми, женщинами в плащах, героическими солдатами, возвращающимися в город, который считался мертвым. Толпа не ошибалась: как будто желая идти вперед, в этой процессии прошлого, воплощавшейся в пении, она запела в свою очередь благородный гимн. Это распространилось по всей Большой площади. Каждый присутствующий запел. Пение людей шло в воздухе навстречу пению колоколов; и душа Фландрии разливалась, как солнце, среди неба и моря.
Это эпическое опьянение на один момент возбудило молчаливую толпу, привыкшую к безмолвию, примирившуюся с спокойствием города, неподвижными каналами, серыми улицами и с давних пор полюбившую меланхолическое очарование отречения. Впрочем, древний героизм дремал в народе, искры скрывались в неподвижности камней. Внезапно кровь во всех жилах потекла быстрее. Как только замолкла музыка, сверкнул неожиданный, всеобщий, живой и безумный энтузиазм. Крики, возгласы, протянутые руки над головами, приветствия… Ах, чудесный музыкант! Это был герой, посланный Провидением, из рыцарских романов, пришедший последним, под непроницаемою бронею, и одержавший победу на турнире. Кто же был этот человек, неожиданно появившийся в последнюю минуту, когда состязание уже казалось безрезультатным, после плачевного опыта первых музыкантов? Только некоторые, близко стоявшие к башне, могли заметить, когда он скрылся за дверью… Никто не знал его и не мог выяснить его личность.
Но вот герольд, одетый в пурпур, снова появился на балконе и в свой звонкий рупор крикнул: «Жорис Борлют!» Это было имя победителя.
Жорис Борлют… Имя как бы упало, слетело вниз, с высоты башни на черные ряды присутствующих, затем поднялось, полетело, перелетало, передавалось от одного к другому, с одной волны на другую, как чайка в море.
Через несколько минут дверь здания крытого рынка широко раскрылась… За герольдом, одетым в пурпур, шел человек, имя которого было в эту минуту у всех на устах. Герольд раздвинул толпу, образовал дорогу, чтобы проводить музыканта-победителя до лестницы дворца, где восседавшие городские власти должны были передать ему назначение.
Все расступились, как перед кем-нибудь, кто выше их, как перед епископом, когда он во время процессии несет реликвию св. Крови.
Жорис Борлют! Имя продолжало летать по Большой площади, ударяясь о фасады, окна и даже шпицы, повторяемое до бесконечности, уже знакомое всем, точно оно было написано им самим на открытом воздухе…
Между тем победитель, дойдя до площадки готической лестницы, был любезно встречен губернатором, городскими властями, которые, подтверждая всеобщее признание, подписали перед ним его назначение на должность городского саrillionneur'а. Затем они передали ему, как награду за его победу и удостоверение его должности, ключ, с железными украшениями, тяжелыми стальными арабесками, ключ, величественный, как посох. Это был ключ от башни, куда отныне он один мог входить, когда захочет, как будто он жил там или был ее владетелем.
Победитель, получив этот живописный дар, вдруг ощутил меланхолию, следующую всегда за каждым праздником, — чувство одиночества и непонятное волнение. Ему показалось, что он взял в руки ключ от своей гробницы.
Глава II
Вечером, в день состязания, Борлют отправился, около девяти часов, к старому антикварию Ван-Гюлю, своему другу, как он имел обыкновение делать это каждый понедельник. Ван-Гюль занимал на rue des Carroyeurs Noirs старый дом с двумя шпицами, кирпичный фасад которого был украшен над дверью барельефом, изображающим корабль, с надутыми, как груди, парусами. Некогда здесь помещалась корпорация лодочников в Брюгге, и подлинная дата 1578 на одном из скульптурных украшений подтверждала ее благородную древность. Дверь, замки, окна, — все было восстановлено со знанием дела но старым образцам; кирпичи были положены гладко, с прибавлением новых, местами — с медною окисью времени, оставленною в неприкосновенности на камнях. Эту замечательную реставрацию произвел Борлют для своего друга в начале своей деятельности, едва только окончив академию, где он изучал архитектуру. Это был урок для общества, урок красоты для всех тех, которые, владея старинными зданиями, предоставляли им погибать непоправимо или разрушали их, перестраивая в банальные(современные дома.