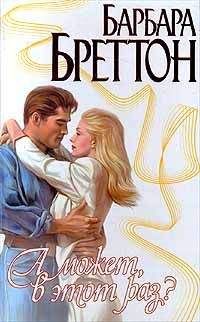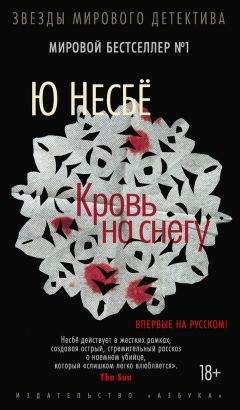Эдгар По - Т. 2. Гротески и арабески
Так прошли два люстра ее жизни, и моя дочь все еще жила на земле безымянной. «Дитя мое» и «любовь моя» — отцовская нежность не нуждалась в иных наименованиях, а строгое уединение, в котором она проводила свои дни, лишало ее иных собеседников. Имя Мореллы умерло с ее смертью. И я никогда не говорил дочери о ее матери — говорить было невозможно. Нет, весь краткий срок ее существования внешний мир за тесными пределами ее затворничества оставался ей неведом. Но в конце концов обряд крещения представился моему смятенному уму спасением и избавлением от ужасов моей судьбы. И у купели я заколебался, выбирая ей имя. На моих губах теснилось много имен мудрых и прекрасных женщин и былых и нынешних времен, обитательниц моей страны и дальних стран, и много красивых имен женщин, которые были кротки душой, были счастливы, были добры. Так что же подвигло меня потревожить память мертвой и погребенной? Какой демон подстрекнул меня произнести тот звук, одно воспоминание о котором заставляло багряную кровь потоками отхлынуть от висков к сердцу? Какой злой дух заговорил из недр моей души, когда сред сумрачных приделов и в безмолвии ночи я шепнул священнослужителю эти три слога — Морелла? И некто больший, нежели злой дух, исказил черты моего ребенка и стер с ним краски жизни, когда, содрогнувшись при этом чуть слышном звуке, она возвела стекленеющие глаза от земли к небесам и, бессильно опускаясь на черные плиты нашего фамильного склепа, ответила:
— Я здесь.
Четко, так бесстрастно и холодно четко раздались эти простые звуки в моих ушах и оттуда расплавленным свинцом, шипя, излились в мой мозг. Годы… годы могут исчезнуть бесследно, но память об этом мгновении — никогда! И не только не знал я более цветов и лоз, но цикута и кипарис склонялись надо мной ночью и днем. И более я не замечал времени, не ведал, где я, и звезды моей судьбы исчезли с небес, и над землей сомкнулся мрак, и жители ее скользили мимо меня, как неясные тени, и среди них всех я видел только — Мореллу! Ветры шептали мне в уши только один звук, и рокот моря повторял вовек — Морелла. Но она умерла; и сам отнес я ее в гробницу, и рассмеялся долгим и горьким смехом, не обнаружив в склепе никаких следов первой, когда положил там вторую Мореллу.
СТРАНИЦЫ ИЗ ЖИЗНИ ЗНАМЕНИТОСТИ[4]
…и весь народ
От изумления разинул рот.
Сатиры епископа Холла.Я знаменит, то есть был знаменит, но я ни автор «Писем Юниуса», ни Железная Маска, ибо зовут меня, насколько мне известно, Робертом Джонсом, а родился я где-то в городе Бели-Берде.
Первым действием, предпринятым мною в жизни, было то, что я обеими руками схватил себя за нос. Матушка моя, увидав это, назвала меня гением, а отец разрыдался от радости и подарил мне трактат о носологии. Его я изучил в совершенстве прежде, чем надел первые панталоны.
К тому времени я начал приобретать научный опыт и скоро постиг, что, когда у человека достаточно выдающийся нос, то он разнюхает дорогу к славе. Но я не обращал внимания ни на одну теорию. Каждое утро я дергал себя за нос разок-другой и пропускал рюмочек пять-шесть.
Когда я достиг совершеннолетия, отец мой как-то пригласил меня зайти к нему в кабинет.
— Сын мой, — спросил он, когда мы уселись, — какова главная цель твоего существования?
— Батюшка, — отвечал я, — она заключается в изучении носологии.
— Роберт, — осведомился он, — а что такое носология?
— Сэр, — пояснил я, — это наука о носах.
— И можешь ли ты сказать мне, — вопросил он, — что такое нос?
— Нос, батюшка, — начал я, весьма польщенный, — пытались многообразно охарактеризовать около тысячи исследователей. — (Тут я вытащил часы.) — Сейчас полдень или около того, так что к полуночи мы успеем пройтись по всем. Итак, начнем: — Нос, по Бартолину, — та выпуклость, тот нарост, та шишка, то…
— Полно, полно, Роберт! — перебил достойный старый джентльмен. — Я потрясен обширностью твоих познаний… Я прямо-таки… Ей-Богу… — (Тут он закрыл глаза и положил руку на сердце.) — Поди сюда! — (Тут он взял меня за плечо.) — Твое образование отныне можно считать законченным; пора тебе самому о себе позаботиться — и лучше всего тебе держать нос по ветру — вот так — так — так — (Тут он спустил меня с лестницы и вышвырнул на улицу.) — так что пошел вон из моего дома, и Бог да благословит тебя!
Чувствуя в себе божественный afflatus [5] я счел этот случай скорее счастливым. Я решил руководствоваться отчим советом. Я вознамерился держать нос по ветру. И я разок-другой дернул себя за нос и написал брошюру о носологии.
Брошюра произвела в Бели-Берде фурор.
— Чудесный гений! — сказали в «Ежеквартальном».
— Непревзойденный физиолог! — сказали в «Вестминстерском».
— Умный малый! — сказали в «Иностранном».
— Отличный писатель! — сказали в «Эдинбургском».
— Глубокий мыслитель! — сказали в «Дублинском».
— Великий человек! — сказал «Бентли».
— Высокий дух! — сказал «Фрейзер».
— Он наш! — сказал «Блэквуд».
— Кто он? — спросила миссис Bas-Bleu. [6]
— Что он? — спросила старшая мисс Bas-Bleu.
— Где он? — спросила младшая мисс Bas-Bleu. — Но я не обратил на них ни малейшего внимания, а взял и зашел в мастерскую некоего живописца.
Герцогиня Шут-Дери позировала для портрета; маркиз Имя-Рек держал герцогинина пуделя; граф Как-Биш-Его вертел в руках ее нюхательный флакон; а его королевское высочество Эй-не-Трожь облокачивался о спинку ее кресла.
Я подошел к живописцу и задрал нос.
— Ах, какая красота! — вздохнула ее светлость.
— Ах, Боже мой! — прошепелявил маркиз.
— Ах, ужас! — простонал граф.
— Ах, мерзость! — буркнул его королевское высочество.
— Сколько вы за него возьмете? — спросил живописец.
— За его нос! — вскричала ее светлость.
— Тысячу фунтов, — сказал я, садясь.
— Тысячу фунтов? — задумчиво осведомился живописец.
— Тысячу фунтов, — сказал я.
— Какая красота! — зачарованно сказал он.
— Тысячу фунтов! — сказал я.
— И вы гарантируете? — спросил он, поворачивая мой нос к свету.
— Гарантирую, — сказал я и как следует высморкался.
— И он совершенно оригинален? — осведомился живописец, почтительно касаясь его.
— Пф! — сказал я и скривил его набок.
— И его ни разу не воспроизводили? — справился живописец, рассматривая его в микроскоп.
— Ни разу, — сказал я и задрал его.
— Восхитительно! — закричал живописец, потеряв всякую осторожность от красоты этого маневра.
— Тысячу фунтов, — сказал я.
— Тысячу фунтов? — спросил он.
— Именно, — сказал я.
— Тысячу фунтов? — спросил он.
— Совершенно верно, — сказал я.
— Вы их получите, — сказал он, — что за virtu! [7] — И он немедленно выписал мне чек и зарисовал мой нос. Я снял квартиру на Джермин-стрит и послал ее величеству девяносто девятое издание «Носологии» с портретом носа. Этот несчастный шалопай, принц Уэльский, пригласил меня на ужин.
Мы все знаменитости и recherches. [8]
Присутствовал новейший исследователь Платона. Он цитировал Порфирия, Ямвлиха, Плотина, Прокла, Гиерокла, Максима Тирского и Сириана.
Присутствовал сторонник самоусовершенствования. Он цитировал Тюрго, Прайса, Пристли, Кондорсе, де Сталь и «Честолюбивого ученого, страдающего недугом».
Присутствовал сэр Позитив Парадокс. Он отметил, что все дураки — философы, а все философы — дураки.
Присутствовал Эстетикус Этикс. Он говорил об огне, единстве и атомах; о раздвоении и прабытии души; о родстве и расхождении; о примитивном разуме и гомеомерии.
Присутствовал Теологос Теологи. Он говорил о Евсевии и Арии; о ереси и Никейском соборе; о пюзеизме и пресуществлении; о гомузии и гомуйозии.
Присутствовал мсье Фрикассе из Роше де Канкаля. Он упомянул мюритон с красным языком; цветную капусту с соусом veloute; телятину a la St. Menehoult; маринад а 1а St. Florentin и апельсиновое желе en mosaiques. [9]
Присутствовал Бибулус О'Бражник. Он вспомнил латур и маркбруннен; муссо и шамбертен; рошбур и сенжорж; обрион, леонвиль и медок; барак и преньяк; грав и сен-пере. Он качал головой при упоминании о клодвужо и мог с закрытыми глазами отличить херес от амонтильядо.
Присутствовал синьор Тинтонтинтино из Флоренции. Он трактовал о Чимабуэ, Арпино, Карпаччо и Агостино; о мрачности Караваджо, о приятности Альбано, о колорите Тициана, о женщинах Рубенса и об озорстве Яна Стеена.
Присутствовал президент Бели-Бердского Университета. Он держался того мнения, что луну во Фракии называли Бендидой, в Египте — Бубастидой, в Риме — Дианой, а в Греции — Артемидой.