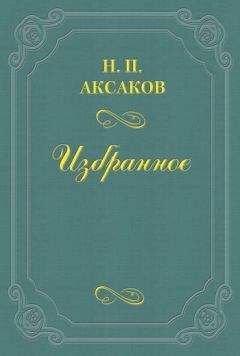Август Мейхью - Блумсберийская красавица
Едва мнѣ минуло шестнадцать лѣтъ, я былъ отправленъ на всѣ четыре стороны искать счастія, какъ лошадь, которую тотчасъ осѣдлываютъ, какъ только она въ состояніи сдержать сѣдло. Меня всунули въ вагонъ втораго класса, вмѣстѣ съ двумя парами платья и полудюжиною рубашекъ, и благословили на битву съ жизнью, предоставивъ мнѣ стать на свои ноги, если смогу, или повалиться, если оплошаю. Находя, что у меня пріятная, располагающая наружность, рѣшили на этомъ основаніи сдѣлать изъ меня доктора. Я началъ свою докторскую карьеру тѣмъ, что покралъ всѣ лепешки отъ кашлю изъ даровой аптеки; мнѣ въ особенности пришлись по вкусу, помню, ромовыя, душистыя карамельки.
Я уже предавался болѣе серьезнымъ наукамъ — ходилъ по больницамъ и обкуривалъ новыя трубки, изучалъ анатомію и совершенствовался по части питья пунша — когда мой старый товарищъ, Адольфусъ Икль, прибылъ въ Лондонъ. Оба его родители умерли, завѣщавъ все дорогому дѣтищу, и обѣщавъ не упускать его изъ виду, и покровительствовать ему, и беречь его съ того свѣта.
Несмотря на это, онъ впалъ въ совершеннѣйшее уныніе и отчаяніе. Мать умерла въ его объятіяхъ. Онъ, плача, говорилъ мнѣ, что чувствуетъ ея послѣднее дыханіе на своей щекѣ, и даже показалъ мнѣ мѣстечко, гдѣ именно. Никогда, кажется, не бывало такого согласнаго, другъ друга любящаго семейства, и, проведя шесть лѣтъ въ Лондонѣ, я съ отраднымъ изумленіемъ замѣчалъ подобную нѣжность и мягкость чувствъ.
Такимъ образомъ, Адольфусъ Икль, богатый нѣжными чувствами и звонкою монетой, былъ живутъ въ водоворотъ житейскій. Добродѣтельный молодой человѣкъ, однако, не устоялъ на ногахъ. Я, со всѣми своими испытаніями и непріятностями по части медицины и хирургіи, я, который никогда не имѣлъ пенни до тѣхъ поръ, пока случайно не поднялъ одного на Оксфордской улицѣ — я въ концѣ-концовъ гораздо успѣшнѣе и лучше справился съ своими дѣлами. Я могу теперь звонить въ свой собственный колокольчикъ такъ громко, какъ мнѣ угодно, могу давать щелчки и толчки своему разсыльному мальчику, когда нахожусь въ дурномъ расположеніи духа, или куражиться надъ кухаркой, заставляя ее по нѣскольку разъ въ день отчищать мѣдную дощечку на двери — мѣдную дощечку, на которой вырѣзано изящнѣйшимъ образомъ: «Джонъ Тоддъ, лекарь. Прививанье оспы бесплатно».
Но теперь не время распространяться о настоящемъ благополучіи, а надо возвратиться къ эпохѣ голода, холода и всякихъ бѣдствій, къ той эпохѣ, когда Адольфусъ впервые прибылъ въ Лондонъ.
Мнѣ стоило несказанныхъ трудовъ и изворотливости пропитаться, прикрыть кое-какъ грѣшное тѣло и заплатить за квартиру. Въ тѣ дни я полагалъ, что невозможно бить несчастнымъ, имѣя пятьдесятъ фунтовъ въ недѣлю. Въ моихъ глазахъ, Адольфусъ былъ счастливѣйшимъ изъ смертныхъ. Онъ жилъ въ изобиліи и роскоши, — я былъ по уши въ долгу, и моя хозяйка вѣчно слѣдила, не несу ли я, выходя изъ дому, узелка; она даже бѣжала за мной въ догонку, если ей представлялось, что карманы у меня подозрительно оттопыривались.
Иногда зависть къ Долли доходила у меня чутъ не до ненависти; именно въ одинъ сырой день, когда подошва моего лѣваго сапога совсѣмъ отказалась служить, и я увидалъ въ его уборной, по крайней-мѣрѣ, три десятка новехонькой обуви. То же въ тотъ день, когда я два часа провелъ, замазывая чернилами побѣлѣвшіе швы сюртука, а потомъ былъ свидѣтелемъ, какъ онъ отдалъ своему лакею пару платья, которая привела бы въ восхищеніе весь Мидльсексъ и прославила бы меня на вѣки.
Всѣ за нимъ ухаживали, никому онъ не былъ долженъ, такъ что жь мудренаго, что я подъ часъ желалъ быть на мѣстѣ этого счастливца, я, къ которому ежедневно стучалась въ дверь хозяйка, настойчиво спрашивая, когда мнѣ угодно будетъ свести счеты?
Однажды я прихожу къ нему (у него были четыре великолѣпнѣйшія комнаты, а я, увы! мостился на чердакѣ!) и застаю его за завтракомъ (паштетъ изъ дичи, ветчина, яйца и у него ни капли апетита, а я ничего не ѣлъ съ утра, кромѣ мерзкаго, грошоваго кусочка колбасы!)
— Что, Долли? Еще не завтракалъ? крикнулъ я. — Я, пожалуй, сдѣлаю тебѣ компанію, прибавилъ я, направляясь къ паштету. — Былъ на танцовальномъ вечерѣ? спросилъ съ полнымъ ртомъ.
— Да, отвѣтилъ онъ. — Я пріѣхалъ отъ леди Лобстервиль въ пять часовъ утра. Не хотите ли шэрри?
Человѣкъ, который радъ-радехонекъ пиву и позволяетъ себѣ вино только въ самыхъ торжественныхъ случаяхъ, какъ напримѣръ, въ день своего рожденья, всегда согласенъ выпить шерри.
— На этомъ вечерѣ, я думаю, были прелестныя женщины, Долли?
— Божественныя отвѣтилъ онъ, вздыхая: — на слѣдующей недѣлѣ я приглашенъ на пикникъ.
Вотъ что значитъ имѣть тысячу-двѣсти фунтовъ годоваго доходу! Для бѣдныхъ парней, перебивающихся фунтомъ въ недѣлю, нѣтъ пикниковъ!
Грумъ вошелъ съ почтительнымъ вопросомъ, когда подавать экипажъ.
— Хотите, поѣдемте верхомъ въ Ричмондъ? спросилъ Долли.
Я называю подобные вопросы оскорбленіемъ. Онъ долженъ бы видѣть, что на мнѣ ветхія ботинки и мои колѣни должны были достаточно показать ему, что, если я только попытаюсь занести ногу въ стремя, то панталоны мои лопнутъ и расползутся, какъ мокрая оберточная бумага. Грумъ (безподобно одѣтый негодяй, розовый и пухлый, какъ принцъ) непремѣнно оскалилъ бы зубы при моемъ отвѣтѣ: «не могу, любезный другъ; у меня есть спѣшное дѣло», еслибы я не посмотрѣлъ на него многозначительнымъ взглядомъ.
Затѣмъ, принесено было множество писемъ. Всѣ они были раздушены. Въ одномъ, леди Рюмблетонъ предлагала мѣсто въ своей ложѣ, въ другомъ сэръ Ташеръ убѣдительно просилъ его на обѣдъ; третье письмо, я полагаю, было отъ молодой дѣвицы, потому что онъ покраснѣлъ распечатывая, и потому, что изъ конверта выпала вышитая закладка для книги.
Да, всѣ льстили ему, всѣ преклонялись передъ его богатствомъ!
A вѣдь, собственно говоря, что такое деньги? Разъ какъ вы насытились простою бараниной, развѣ вы станете завидовать какому-нибудь жареному лебедю, приготовленному для богача? Заплативъ все золото Ломбардъ-Стрита, развѣ вы можете прибавить себѣ вершокъ росту? Все богатство барона Ротшильда развѣ можетъ преобразить курносый носъ въ греческій? Нѣтъ; и вотъ-то мы, высокіе, рослые, стройные парни, превосходимъ васъ, богатыхъ, слабосильныхъ карликовъ.
Маленькій Долли Кель, какъ онъ ни вытягивался, имѣлъ, въ двадцать-три года, всего четыре фута десять вершковъ. Это было его сокруха. Я столько разъ замѣчалъ, какъ онъ взглядывалъ на мои великолѣпныя ноги и вздыхалъ; потомъ печально подымалъ глаза на мою величественную грудь, и вздихалъ опять; наконецъ, устремлялъ взоры на мой внушающій почтеніе носъ, и думалъ, съ какою радостью онъ отдалъ бы половину своего состоянія за такіе члены и черты!
Онъ былъ болѣзненный, захирѣвшій человѣчекъ, и такой блѣдный и слабый, что любая дѣвочка могла бы его опрокинуть. Въ его уборной, на каминѣ, стояли склянки съ лекарствами, на одномъ рецептѣ: «крѣпительное. Принимать каждое утро и вечеръ», на другомъ: «пилюли, для возбужденія апетита; принимать по двѣ передъ ѣдою». Онъ привезъ съ собой предписанія своего деревенскаго доктора, «который въ совершенствѣ изучилъ его сложеніе», и осыпалъ золотомъ столичныхъ докторовъ, которые знать не хотѣли его «сложенія». Его мамаша передъ кончиною вручила ему, что она называла, «альманахъ здоровья», изобрѣтенный самою нѣжною родительницею на пользу любимаго сына; въ этомъ альманахѣ были проповѣди о пользѣ фланели, разсужденія о вредѣ сырой погоды и т. д. Кромѣ того здѣсь встрѣчались удивительныя размышленія о домашнемъ комфортѣ; помѣщены были медицинскіе рецепты, въ родѣ слѣдующаго: «превосходный крапивный декоктъ для успокоенія и очищенія крови», или «любимыя пилюли папаши».
Уморительно было видѣть отчаянныя усилія Долли казаться выше того, какъ онъ былъ на дѣлѣ: онъ носилъ двухвершковые каблуки, верхушка его шляпы была длиннѣе водосточной трубы, а манерою держаться онъ затмилъ бы гордаго Брута. Или, онъ такъ выпрямлялся и такъ вытягивалъ ножки, что, казалось, того и гляди, онъ гдѣ-нибудь лопнетъ.
У него была слабость всѣхъ маленькихъ людей: онъ обожалъ громадныхъ женщинъ. Чуть, бывало, завидитъ какую-нибудь Бобелину, и пропалъ: уставитъ глаза на гигантскаго ангела, и только бормочетъ: «что за роскошное созданіе! О, благородная красота!»
Что можетъ быть смѣшнѣе маленькаго человѣка, который таращитъ глава на шляпку прекраснаго гиганта, откинувъ голову назадъ, какъ будто старается увидать, который часъ на церкви св. Петра?
Я предпочитаю склонять голову, любуясь милымъ лицомъ моей избранной.
Разумѣется, нельзя ожидать отъ этихъ крошечныхъ людей такого здраваго смысла, какимъ обладаемъ мы, рослые шестифутовыя парни. Но за то, они крайне чувствительны. Бѣдный Долли! Впрочемъ, теперь уже поздно голосить. Мнѣ прискорбно, что я нѣкоторымъ образомъ былъ отчасти причиною его погибели. Однако…