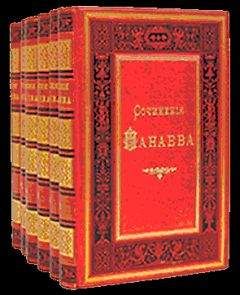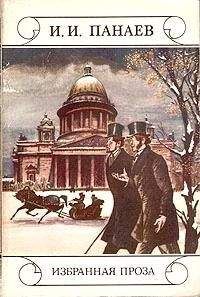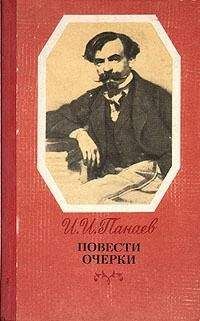Иван Панаев - ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФЕЛЬЕТОНИСТ
К новому кандидату очень к лицу его форменный фрак с пуфами на плечах, с высоким воротником и длинными фалдами! Блестящая пуговица сверкает на его черной манишке; подбородок его то ныряет в пестрый волнистый галстук, то снова выскакивает на его поверхность; лицо лоснится самодовольствием. Комнатка его убрана с большим вкусом. На стене висят картиночки и портретцы великих людей. На этажерке стоит серебряная сахарница, четыре книжки в ярком переплете и бумажник, подаренный кузиною, на котором стальным бисером по розовому полю вышито: souvenir. Он - сидит за письменным столиком своим и сочиняет статейку, под заглавием: "Теория и практика красноречия", - глубокомысленная статейка!
Все бедные кандидаты начинают обыкновенно свое служебное поприще с учительства. И мой молодой человек делается также учителем.
Начальство тех заведений, где он учит, довольно его аккуратностию. Его похваливают и дают ему награждение. Слухи о его способностях и главное - аккуратности распространяются по Москве. Родители его ищут, он в иных домах получает уже по десяти рублей за час!
Жизнь шире и шире раздвигается перед ним. Иногда он обедает у Яра, а после обеда играет у приятеля в преферанчик и вистик; он танцует на замоскворецком балку. Он не пропускает ни одного представления, когда Мочалов играет в трагедии… А деньги выходят незаметно. Проклятые деньги! Прощайте же вы - невинные грезы юности! Прощайте и вы, труды бескорыстные!
"Не хочу печатать в журнале ни одной строчки без денег! - думает он, притопнув решительно ногой. - Надо же попить да повеселиться!.."
В свое время и любовь идеальная приходит. Как же без идеальной любви? Герой мой влюбляется в барышню, вздыхает, пишет стишки "К ней" и печатает их; он, разнеживаясь смотрит на милую воровку своего покоя, а отставной офицер подходит к нему, ударяет его по плечу и говорит: "Ах ты, Марлинский этакой! Ну, смотри, мечтатель!.. Держи ухо востро, братец, а то и не увидишь, как скрутят!.."
Впрочем, герою моему и не нужно предупреждения. Он влюбился больше для того, чтоб только писать стишки "К ней". У него уж теперь не любовь на уме… Ему смертельно хочется сделаться редактором какой-нибудь газеты, какого-нибудь повременного издания.
Вот как! Эта мысль беспощадно повсюду гоняется за ним. Мысль хорошая! Говорят, будто бы, точно, очень лестно для самолюбия увидать в конце газеты или хоть биржевого прейскуранта свое имя, набранное капителью! У моего молодого человека нет ни малейшей надежды выхлопотать себе позволение издавать журнал или газету, - несмотря на то, он все пишет программы журналов и газет и все толкует об литературной добросовестности и благонамеренности…
Но в Москве скоро становится ему неловко и скучно. Там нет газет, там нет фельетонной литературы, там не любят легкого чтения…
То ли дело Петербург!.. Петербург только и хлопочет о деньгах. Там раздолье литературным спекулянтам, шутам и гаерам… Там ловкие люди приобретают великие капиталы различными литературными проделками; там пользуются литературной славой - господа, не написавшие ни одной строки… Там… но мало ли чего нет там? Вот отрывок из письма, которое автор "Теории и практики", будущий петербургский фельетонист, получил от одного петербургского действительного фельетониста - своего друга.
"Да, Петя, ваша Москва деревня в сравнении с нашим Петербургом… Что тебе без всякой славы и вознаграждения работать в московских журналах, о существовании которых у нас и не подозревают? Я знаю, что ты получаешь там не больше 25 руб. за оригинальный лист, хоть и прикидываешься, плут, будто не берешь менее 150 р., а здесь 4 000 р. в год получает всякий корректор. Здесь, душа, корректурою наживают себе славу… Я скажу тебе про себя, что, кроме жалованья, известного тебе, я пользуюсь и другими невинными доходцами: все кондитеры, например, меня знают; я всякий день захожу в кондитерские и ем даром просто сколько душе угодно; волочусь, дружок, без пощады; креманом меня так и обдают и купцы, и актеры, и офицеры… Словом, здесь настоящий рай земной… Образование в Петербурге распространено во всех классах: когда я иду по Невскому, то все проходящие говорят: "А вон идет фельетонист такой-то…" Что, кончил ли ты свой водевильчик, который читал мне прошлого года, в последний приезд мой в Москву? Некоторые куплетцы у тебя, я помню, чудо! Я сам накатал водевильчик…" - и проч.
- В Петербург! в Петербург! - восклицает герой мой, прочитав эти строки… - У меня есть в Петербурге знакомый журналист; напишу к нему и предложу себя к его услугам. Он человек добросовестный - это важное дело; мы с ним, верно, сойдемся… Я наживу себе в несколько лет капиталец, - заведу, может быть, со временем свой экипажец, своих лошадок…
А между тем и службой займусь. В Петербурге нельзя не служить… Деньги - деньгами, а чины - чинами. Одно другому не мешает… Напротив… Я буду принадлежать к самой добросовестной литературной партии…" - и прочее…
Известно, что русская литература, в существовании которой еще многие очень умные люди сомневаются, делится на партии; говорят, будто бы вследствие этого и читающая публика также разделяется на партии… К какой же партии принадлежите вы, мой читатель?
II
Вот что пишет герой мой к другу своему, петербургскому фельетонисту:
"Дело решено, душа моя, я еду в Петербург. Мебель свою я продал, укладываю картинки, - боюсь, чтоб в дороге стекла не перебились; приищи мне квартирку, mon cher, тебе это легко; ты со всеми знаком и все знаешь. Я сошелся с А** на выгодных условиях.
Фельетон газеты будет в моем полном распоряжении. Один мой знакомый приискал мне также место в** департаменте. Сумма, которую я буду получать, обеспечивает мою жизнь, даже можно будет и пожуировать раз в месяц. Впрочем, только бы мне добраться до
Петербурга, а деньги наживать станем; у меня теперь в запасе три водевиля, которые я переделал с французского. Пущу их на петербургскую сцену. В этих водевилях, я тебе скажу по совести, есть куплетцы презабористые… Надеюсь, душа, что хотя мы фельетонисты двух враждебных газет, но это не помешает нашим приятельским отношениям. В моей добросовестности сомневаться тебе нечего. Хочу также, голубчик, приняться за перевод
Шекспира стихами. Надо познакомить нашу публику с этим великим писателем. Ты знаешь, что я всегда был шекспирианцем, mon cher. К тому ж переводом Шекспира в стихах легко можно составить себе в литературе громкое имя. В Петербург! В Петербург!..
В Петербурге - то ли дело?
В Петербурге - просто рай.
Не робей… Пиши лишь смело
Да деньжонки зашибай!
Adieu. Я твой whilst this machine is to him, как говорит Гамлет…"
По приезде в Петербург фельетонист завивается у Фаге, покупает галстук у Чуркина, шляпу у Фалелеева, пахучие перчатки под вывескою Оленя, надевает синий сюртучок с бранденбурами и кистями работы портного под вывескою: "Au Journal" и идет гулять по
Невскому проспекту. В таком щегольском наряде он очень хорош! И, вероятно, чувствуя это, он появляется в первый раз на поприще фельетонное под псевдонимом "Светского человека".
Его сюртучок с бранденбурами и кистями оправдывает смелость такой выходки. Дебюты фельетониста блистательны. Он подражает игривому и остроумному языку Жанена. Вот выдержка из них:
"Самая восхитительная, самая упоительная, самая новая и в одно и то же время самая старая новость в Петербурге - осень!.. О да… осень, грязная, бледная, холодная, сырая, без солнышка, с седым небом, с седыми днями, с темными ночами…"
"В Летнем саду грустно: желтые листья лежат на дорожках, как клочки разорванной бумаги на полу в кабинете писателя или как папильотки в будуаре аристократки; гуляющих почти нет. Летний сад весною и осенью - какая безграничная разница! Это свет и тьма, день и ночь, улыбка и слезы (осень в Петербурге дождливая)… Многие жалуются на петербургский климат; но всем и каждому известно, что уже в апреле месяце в Летнем саду повсюду цветут розы - прелестные, пышные, роскошные, душистые, упоительные; между этими розами встречаются и лилеи - нежные, прозрачные, белее карарского мрамора, даже ярче русского снега, озаренного русским солнцем!.."
Фельетонист мой определяется в департамент.
Он принимается за службу ревностно; он приходит в департамент первый и уходит последний… Столоначальник им чрезвычайно доволен и даже, разговаривая об нем однажды с начальником отделения, выражается про него так: "Это, я вам доложу, Иван Кузьмич, такой молодой человек… такой, что просто я вам скажу ну! - если он будет все так продолжать…
Ну, так тогда пойдет далеко, будет благонадежным чиновником".
Но увы! Мой герой не оправдывает надежд своего столоначальника… Через два месяца служба надоедает ему. Он перестает ходить в департамент и, после замечания начальника отделения о нерадении, выходит в отставку.
- Я вышел в отставку затем, - говорит он одному своему трактирному приятелю, - затем, мон-шер, чтоб, знаешь, посерьезнее этак на свободе заняться литературой.