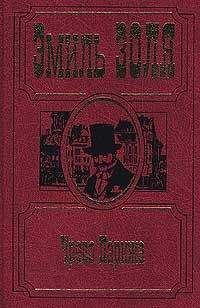Эмиль Золя - Собрание сочинений. Т. 4. Чрево Парижа. Завоевание Плассана
— Эй, вы там! — вдруг окликнула его г-жа Франсуа.
И так как Флоран не шевелился, она взобралась наверх и растолкала его. Тогда Флоран сел. Проснувшись, он не почувствовал голода; он был как бы в дурмане. Огородница помогла ему выбраться из повозки, спросив:
— Ну, как, поможете разгрузиться?
Он согласился. Какой-то толстяк в фетровой шляпе, с бляхой на левом отвороте пальто, сердито постукивал тростью по тротуару.
— Живей, живей! Нельзя ли поторопиться! Поближе подайте повозку. У вас сколько метров? Четыре, так?
Он выдал квитанцию г-же Франсуа, которая вынула из полотняного кошелька горсть монет по два су. А толстяк отправился дальше покрикивать и постукивать своей тростью. Огородница взяла Валтасара под уздцы, подталкивая его и осаживая повозку колесами вплотную к тротуару. Затем, отмерив соломенными жгутами положенные ей четыре метра на тротуаре, она откинула стенку задка и попросила Флорана передавать ей овощи, пучок за пучком. Она аккуратно раскладывала их на отведенной ей площадке, придавая своему товару привлекательный вид и располагая ботву так, что каждую кучку овощей обрамляла кайма из зелени; с необыкновенной быстротой она соорудила настоящую выставку, которая в сумраке напоминала ковер с симметричными красочными пятнами. Когда Флоран подал ей огромную связку петрушки, обнаруженную на самом дне повозки, г-жа Франсуа попросила его еще об одной услуге:
— Окажите любезность, постерегите мой товар, пока я поставлю повозку в сарай… Это в двух шагах отсюда, на улице Монторгей, в «Золотой бусоли».
Он заверил ее, что она может спокойно уйти. От движений ему только становилось хуже; едва он начал ходить, как почувствовал, что голод снова просыпается. Флоран прислонился к груде капусты, рядом с товаром г-жи Франсуа, внушая себе, что так ему хорошо, что он не тронется с места, будет ждать. В голове его, казалось, царила совершенная пустота, и он не вполне отдавал себе отчет в том, где находится. В начале сентября по утрам уже бывает совсем темно. Ряды фонарей вокруг Флорана убегали вдаль, обрываясь во тьме. Он находился на краю широкой улицы, которую сейчас не узнавал. Она уходила куда-то очень далеко, в глубокую ночь. А он не различал ничего, кроме овощей, которые сторожил. За ними, вдоль мостовой, наплывали друг на друга неясные очертания каких-то громоздких предметов. Посреди шоссе вставали крупные мутно-серые контуры повозок, загораживающих улицу, и из конца в конец доносилось дыхание, — шумное дыхание вереницы невидимых за мглой лошадей в упряжках. Перекликающиеся голоса, стук деревянных частей или звон упавшей на камни мостовой железной цепи, глухой шорох ссыпаемых овощей, затихающее громыханье повозки, осаживаемой вплотную к тротуару, — все наполняло еще сонный воздух тихим ропотом чьего-то напоенного звуками мощного пробуждения, близость которого уже ощущалась в этом трепетном сумраке. Обернувшись, Флоран обнаружил за своими кочанами капусты человека, плотно закутанного, словно запакованного, в плащ; он храпел, уронив голову на корзину со сливами. Немного поближе, слева от себя, Флоран заметил мальчика лет десяти, дремавшего с ангельской улыбкой на устах в ложбинке между двумя горами цикория. И по-настоящему бодрствовали на тротуаре лишь фонари, они раскачивались в чьих-то невидимых руках, озаряя при каждом своем броске людей и овощи, которые, смешавшись в кучу, спали здесь в ожидании прихода дня. Но особенно поразили Флорана гигантские павильоны по обеим сторонам улицы: их крыши, высясь одна над другой, казалось, все росли, ширились и тонули в светящемся облаке огней. В замутненном сознании Флорана они представлялись вереницей чертогов, огромных и правильных, кристально-воздушных, на фасадах которых зажигались тысячи огненных полос, — то был непрерывный, бесконечный ряд освещенных решетчатых ставен. Эти узкие желтые поперечины образовывали между тонкими гранями столбов лесенки света, которые тянулись до темной линии нижних кровель, одолевали нагромождение верхних крыш, прокладывая в толще зданий ажурные каркасы огромных залов, где под желтыми отблесками газа мелькали беспорядочные груды еле различимых, серых, неподвижных предметов. Флоран отвернулся, раздраженный тем, что не знает, где находится, взбудораженный этим исполинским и зыбким виденьем; когда же он снова поднял глаза, то увидел светящийся циферблат св. Евстафия и серую громаду церкви. Это его чрезвычайно удивило. Он был у перекрестка св. Евстафия.
Тем временем вернулась г-жа Франсуа. Она сердито возражала какому-то человеку с мешком на спине, который хотел купить у нее морковь по одному су за пучок:
— Помилуйте, Лакайль, надо же меру знать… Вы продаете ее парижанам по четыре, по пять су, — не спорьте, пожалуйста… По два су отдам, если желаете.
А когда человек с мешком все-таки ушел, она сказала, обращаясь к Флорану:
— Право же, люди думают, что все это само собой растет на земле… Пусть поищет морковь по одному су, пьяница он этакий… Увидите, он еще вернется.
Затем, усевшись рядом с Флораном, спросила:
— Послушайте, ведь если вы давно не были в Париже, вы, верно, не знаете и нового Центрального рынка? Уж лет пять, как его выстроили… Видите павильон, что подле нас? Это павильон фруктов и цветов; немного подальше — рыба, птица, а позади — овощной ряд, масло, сыр… С этой стороны — шесть павильонов; затем по другую сторону, напротив, — еще четыре: мясо, требушина, птичий ряд… Вот какая махина, да только зимой здесь собачий холод. Говорят, будто построят еще два павильона, — снесут дома вокруг Хлебного рынка. Ну как, приходилось вам все это видеть?
— Нет, — ответил Флоран, — я был за границей… А эта большая улица, что перед нами, как называется?
— Это новая улица, улица Новый мост, она начинается от Сены и выходит сюда, к улицам Монмартр и Монторгей… Будь сейчас светло, вы бы сразу освоились.
Она встала, заметив, что над ее репой наклонилась какая-то женщина.
— Это вы, матушка Шантмес? — ласково спросила она.
Флоран смотрел на убегающую вниз улицу Монторгей. Именно здесь, в ночь на 4 декабря, его схватили полицейские. Он шел по бульвару Монмартр, часа в два, медленно шагая в гуще толпы, и улыбался тому, что Елисейский дворец выстроил на улицах солдат, дабы народ наконец принял свое правительство всерьез, как вдруг солдаты стали стрелять в упор и за несколько минут очистили тротуары. Сбитый с ног Флоран упал на углу улицы Вивьен; он больше ничего не сознавал, обезумевшая толпа пронеслась по его телу, обуянная неистовым страхом перед раздавшимися выстрелами. Когда вокруг все смолкло и Флоран опомнился, он попытался встать. На нем лежало тело молодой женщины в розовой шляпке; соскользнувшая с ее плеч шаль открыла мелко плоеную шемизетку. Повыше груди шемизетку пробили две пули; Флоран осторожно отодвинул тело молодой женщины, чтобы высвободить свои ноги, и тогда из дырок в шемизетке хлынула кровь двумя струйками прямо ему на руки. Он вскочил и без памяти бросился прочь, потеряв шляпу; руки у него были в крови. До вечера он бессмысленно слонялся по городу, непрестанно видя перед собой молодую женщину, лежащую на его коленях, ее залитое бледностью лицо, ее большие, широко раскрытые голубые глаза, страдальческую складку у губ, казалось с изумлением спрашивающих: умерла? здесь? и так быстро? Флоран был застенчив; в тридцать лет он не смел посмотреть в лицо женщине, а это лицо врезалось в сердце навеки. Словно он потерял жену. Вечером, еще не опомнившись от страшных картин этого дня, он неожиданно для себя попал в кабачок на улице Монторгей, где какие-то люди за стаканом вина сговаривались строить баррикады. Он пошел за ними, помог выломать камни из мостовой и, устав от блужданий по улицам, уселся на баррикаде, мысленно повторяя, что, если придут солдаты, он будет драться. При нем не было даже ножа; шляпу он так и не нашел. Часам к одиннадцати он заснул; во сне он видел две круглых дырочки на белой, мелко плоеной шемизетке, глядевшие на него, словно глаза, залитые слезами и кровью. Вдруг он проснулся: его крепко держали четверо полицейских; они стали избивать Флорана, не жалея кулаков. Люди, строившие баррикаду, убежали. А полицейские, заметив на руках Флорана кровь, пришли в ярость и чуть его не задушили. Это была кровь той молодой женщины.
Погруженный в воспоминания, Флоран машинально поднял глаза на светящийся циферблат св. Евстафия, но даже не увидел стрелок.
Было около четырех часов утра. Рынок все еще спал. Г-жа Франсуа стоя препиралась с матушкой Шантмес по поводу цены пучка репы. Тут Флоран вспомнил, что его чуть не расстреляли здесь, у стены церкви св. Евстафия. Как раз на этом месте пули взвода жандармов раздробили черепа пяти несчастным, захваченным у баррикады близ улицы Гренета. Пять трупов валялись на тротуаре там, где сегодня лежит, кажется, груда розовой редиски. Флоран избежал расстрела, потому что сопровождавшие его полицейские были только при саблях. Его препроводили в ближайший полицейский участок, оставив начальнику участка клочок бумажки со следующей нацарапанной карандашом строчкой: «Арестован с окровавленными руками. Весьма опасен». До утра его таскали из одного участка в другой. Клочок бумажки сопутствовал ему всюду. На него надели наручники, следили, как за буйнопомешанным. В участке на улице Ленжери пьяные солдаты решили его расстрелять; они уже собрались с ним расправиться, когда пришел приказ доставить арестованных в дом заключения при полицейской префектуре. Через день он попал в каземат форта Бисетр. С этих пор его не покидали муки голода; он узнал его в каземате, и отныне голод был с ним неразлучен. В это глубокое подземелье согнали около ста человек, они сгрудились в духоте, с жадностью поедая жалкие куски хлеба, которые им бросали, словно зверям в клетке. Когда Флоран предстал перед своим следователем, без каких бы то ни было свидетелей, без защитника, ему предъявили обвинение в том, что он член некоего тайного общества; когда же он поклялся, что это неправда, следователь вынул из его дела клочок бумажки, на котором было нацарапано карандашом: «Арестован с окровавленными руками. Весьма опасен». Этого оказалось достаточно. Его приговорили к ссылке. Спустя шесть недель, уже в январе, его разбудил ночью тюремный надзиратель и запер во дворе вместе с другими заключенными — их было свыше четырехсот. Через час этот первый арестантский этап был направлен в плавучую тюрьму и дальше в ссылку, закованный в ручные кандалы и сопровождаемый двумя рядами жандармов с заряженными ружьями. Они перешли через Аустерлицкий мост, миновали линию бульваров и добрались до Гаврского вокзала. Была веселая карнавальная ночь; окна ресторанов на бульварах сияли огнями; подле улицы Вивьен, в том самом месте, где ему с тех пор всегда виделась убитая незнакомка, чей образ он унес с собой, Флоран заметил в глубине кареты женщин в полумасках, с обнаженными плечами, услышал смеющиеся голоса; дамы сердились, что проезд закрыт, и брезгливо отворачивались от «каторжников, которым, право же, конца нет». По дороге от Парижа до Гавра заключенные не получили ни куска хлеба, ни стакана воды: им забыли выдать накануне отъезда их паек. Они поели только через тридцать шесть часов, когда их запихнули в трюм фрегата «Канада».