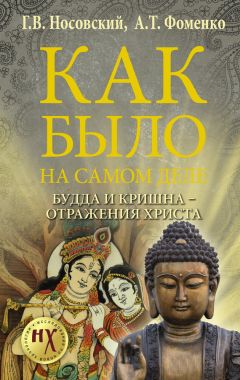Генри Миллер - Аэрокондиционированный кошмар
Несколько месяцев я провел на Юге в гостях у давнего приятеля, пробыл там большую часть лета, а потом вернулся в Нью-Йорк. Отец еще был жив. Теперь я регулярно навещал его в его доме в Бруклине, мы говорили о былых годах в Нью-Йорке, встречались с соседями, слушали радио (всегда эта чертова «Получи информацию!»), обсуждали свойства предстательной железы, особенности мочевого пузыря, «Новый курс», который для меня был не столько новым, сколько бестолковым и бессмысленным. «Ох уж этот Рузвельт!» — говорили соседи так же, как они говорили: «Ох уж этот Гитлер!» Большие перемены произошли с Америкой, тут не о чем было спорить. Но я чувствовал, что приближаются еще большие. Мы были свидетелями только прелюдии к чему-то невообразимому. Все скособочилось и кренится все больше и больше. Может быть, мы вообще закончим на четвереньках, гугукая и взвизгивая, как бабуины. Что-то страшное держалось про запас — каждый это чувствовал. Да, Америка изменилась. Ослабла сопротивляемость, появилось ощущение безнадежности, смирение перед судьбой, скептицизм, пораженчество — я сначала не поверил своим ушам и глазам. И над всем этим та же маска идиотского оптимизма, только теперь заметно расползающаяся по швам.
Отец мой все еще держался, и я начал метаться. Бог знает, сколько еще мне предстоит околачиваться в Нью — Йорке. Я решил вплотную заняться своими планами. Раньше или позже поездка состоится — чего ждать? Опять же денег, разумеется. Чтобы путешествовать по стране год или около того, нужны деньги. И, надо думать, деньги немалые. Сколько мне потребуется, я понятия не имел, знал лишь, что либо уеду очень скоро, либо застряну здесь навсегда.
После возвращения с Юга я нередко захаживал в мастерскую Эйба Раттнера поупражняться в письме акварелью. Как-то в разговоре я затронул тему моей будущей поездки. К моему удивлению, он сразу же загорелся желанием отправиться вместе со мной. Вскоре мы уже обсуждали, какого типа книгу мы с ним сотворим — колоссальная штука с цветными вклейками и все прочее. Что-то роскошное, люкс, вроде тех прекрасных французских книг, на которые мы на своем веку нагляделись вдоволь. Кто захочет издать эту вещь, нам было неведомо, главное — сделать ее, а издатель потом отыщется. И даже если ничего из этого не выйдет, поездка все равно должна состояться.
Мало. — помалу мы эволюционировали до идеи, что надо брать машину. Единственный способ увидеть Америку — проехать по ней в автомобиле, это вам все скажут. Конечно, это неправда, но звучит восхитительно. У меня никогда не было автомобиля, я не знал, с какой стороны к нему подступиться. Теперь, думаю, я бы предпочел каноэ.
Первый же автомобиль, на который мы бросили взгляд, стал тем самым, который мы выбрали[1]. Оба мы ничего не смыслили в автомобилях, мы просто поверили на слово, что нам предлагают отличную, надежную машину. С учетом всех обстоятельств так оно и было, хотя у нее имелись и свои слабые места.
За несколько дней до окончания нашей подготовки я встретил человека по имени Джон Вудберн из «Даблди, Доран К°». Наш проект его заинтересовал необычайно, и, к моему изумлению, через несколько дней я уже подписывал в его конторе договор на книгу. Одного из подписавшихся, представьте себе, звали Теодор Рузвельт. Обо мне он никогда не слышал и имя свое ставил не без колебаний. Но тем не менее подписался.
Я надеялся на пять тысяч долларов аванса, но получил лишь пять сотен. Все равно эти деньги улетучились еще до того, как я проехал Голландский туннель. Раттнера в договор не включили. Оказалось, что издание такой книги, какую мы замыслили, слишком дорого. Я был смущен и раздосадован из-за Эйба, тем более что он отнесся к этому с большим тактом и самообладанием. Он, нет сомнений, рассчитывал на многое, такой уж он оптимист, зато я всегда ожидаю, что ангелы пописают в мое пиво. «Главное, — сказал Раттнер, — повидать Америку». Я согласился. Втайне я лелеял надежду, что на часть моего будущего гонорара я смогу напечатать раттнеровскую версию Америки в рисунках и в цвете. Решение компромиссное, компромиссы я ненавижу, но это Америка. «В следующий раз все будет по-вашему» — известная песня. Это гнусная ложь, но, чтобы ты не взбрыкивал, тебе немного приплатят.
Вот так начиналось наше путешествие. Как бы то ни было, мы покидали Нью-Йорк в отличном настроении. Немного нервничали, должен признаться, потому что прошли от силы полдюжины уроков в автошколе. Я знал, как править, как переключать скорость, как тормозить, — чего еще надо? Итак, дух наш воспарил, и в полдень субботы мы взяли курс на Голландский туннель. В эту чертову дыру я никогда не попадал, если не считать одной давнишней поездки в такси. Так вот, это оказалось кошмаром. Началом бесконечного кошмара, вернее сказать.
Когда стало ясно, что мы без толку кружим по Ньюарку, я уступил руль Раттнеру. Час пребывания за рулем вымотал меня вконец. Въехать в Ньюарк легко, а вот выбраться из него под дождем, в субботу вечером и снова найти эту придурочную трассу — совсем другая штука. Еще через час мы все-таки выехали на свободу. Никаких пробок, острый свежий ветер, пейзаж, подающий надежды. Мы на верном пути! Наша первая остановка — Нью-Хоуп[2].
Нью-Хоуп! Курьезно, что мы выбрали для первого привала город с таким названием. Впрочем, это было прелестное место, напомнившее мне чем-то сонный европейский городок. И Билл Най, к которому мы нагрянули в гости, был истинным символом новых надежд, новых страстей, нового курса. Это был превосходный старт; атмосфера дышала обещаниями.
Нью-Хоуп — одна из американских художнических колоний. Я очень ясно помню, в каком настроении уезжал я оттуда. Оно выразилось следующим образом: «Оставь надежды, всяк входящий сюда художник!» Удобно устроились здесь только коммерсанты от искусства: у них были прекрасные дома, лучшие кисти, красивые натурщицы. Остальные вели здесь собачью жизнь. И это мое впечатление подтвердилось и окрепло в дальнейшем путешествии. Америка — не место для художника: быть здесь художником значит быть морально прокаженным, неудачником в деловом отношении и социальным изгоем. Откормленная кукурузой свинья наслаждается жизнью куда больше, чем творящий писатель, живописец или композитор. Кролику и то живется лучше.
Когда я в первый раз вернулся из Европы, мне часто напоминали, что я «эмигрант», и, бывало, в этом слове ощущался неприятный душок. Эмигрант выглядел как сбежавший. Пока не разразилась война, мечтой каждого американского художника было отправиться в Европу и прожить там как можно дольше. В те давние дни никто не сказал бы о таком человеке, что он сбежал, — это было так естественно, так укладывалось в нормальный порядок вещей. С началом войны пробился на поверхность какой-то ребяческий, наглый шовинизм. «Ну что, рад очутиться опять в старых добрых Штатах?» — таким стало обычное приветствие. «Лучше Америки места нету, так ведь?» В ответ от вас ждали чего-нибудь вроде: «В самую точку попали!» За пределами такого обмена мыслями присутствовало, конечно, неосознанное чувство разочарования; художник-американец, вынужденный в поисках убежища опять очутиться на родине, не очень-то жалует своих европейских друзей за то, что они лишили его привилегии вести ту жизнь, которой он страстно желает. Его раздражает, что они позволили начаться такому мерзкому и ненужному делу, как война. Америка, как всем известно, была создана людьми, бежавшими именно от такой гнусной ситуации. Америка, по преимуществу, страна эмигрантов, беглецов, а если выразиться покрепче, страна ренегатов. Дивный мир могли бы создать мы на новом континенте, если б на самом деле бежали от наших ближних в Европе, Азии и Африке. Прекрасный новый мир получился бы, наберись мы смелости повернуться спиной к старому, выстроить все заново, вытравить из себя яд, накопившийся за столетия жестокого соперничества, зависти и распрей.
Новый мир не создать всего лишь стараниями забыть о старом. Новый мир создается новым духом и новыми ценностями. Наш мир мог начаться именно так, но сегодня все окарикатурено. Наш мир — мир вещей. Он составлен из комфорта и роскоши или из желаний добиться комфорта и роскоши. Чего мы больше всего боимся перед лицом близящейся катастрофы, так это того, что нам придется отказаться от наших побрякушек, наших технических новинок, от всех этих мелких удобств, без которых нам станет жуть как неуютно. В нашей позиции нет ничего смелого, рыцарственного, героического и великодушного. Мы вовсе не миролюбивые люди; мы самодовольны и робки, у нас слабые желудки и трепещущие души.
Я заговорил о войне потому, что по возвращении из Европы у меня постоянно допытывались, что я думаю о тамошней ситуации. Будто бы простой факт, что я прожил там несколько лет, мог наполнить мои слова глубочайшим смыслом! Кто может разгадать загадку такого все расширяющегося конфликта? На это претендуют журналисты и историки, но они задним умом крепки, сравнишь их нынешние суждения с их же предсказаниями и поймешь, как трудно верить анализу этих людей.