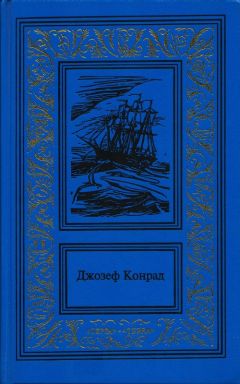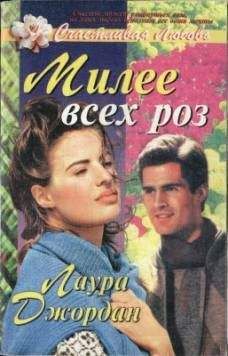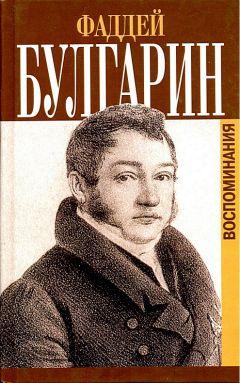Джозеф Конрад - Негр с «Нарцисса»
Голоса гудели все громче. Арчи, сжав губы, сосредоточился еще глубже, как будто уменьшился в объеме и упорно шил, молчаливый и старательный. Бельфаст кричал, как вопящий дервиш:
— Вот я и говорю ему, значит, ребята: «Прошу прощения, сэр, — это я говорю второму подшкиперу этого судна, — прошу прощения, сэр, — в министерстве были, должно быть, выпивши, когда они выдавали вам аттестат». — «Да, как ты смеешь, ты…» — кричит он и кидается на меня, точно взбесившийся бык… весь как есть в белом с ног до головы. Я ничего не говорю, хватаю свое ведерко с дегтем и бац — окатываю его всего как есть, с белой физией и белым костюмом… «Вот, говорю, получай, — я как-никак матрос, а ты кто? Бездельник, говорю, ты, шкиперский подголосок, пятая собачья нога, вот кто ты!» Видели бы вы, братцы, как он пустился наутек. Деготь так начисто и ослепил его… ей-ей…
— Брешет он все, ребята. Никакого он дегтя не выливал. Я был при этом, — крикнул кто-то.
Оба норвежца сидели рядом на ящике, невинно озираясь по сторонам круглыми глазами, безмятежные и похожие друг на друга, словно пара влюбленных птиц на жердочке; но русский финн среди гвалта, резких выкриков и раскатистого смеха оставался неподвижным, вялым и мрачным, точно глухой человек, лишенный позвоночника. Рядом с ним Арчи улыбался своей иголке. Один из новичков, широкоплечий малый с сонными глазами, воспользовавшись временным затишьем, насмешливо обратился к Бельфасту:
— Удивляюсь я, как это хоть один подшкипер уцелел до сих пор с этаким парнем на борту; уж, верно, теперь они присмирели, после того как ты занялся их укрощением, братец.
— Известно присмирели! — взвизгнул Бельфаст. — Эх, если бы только мы держались покрепче друг за дружку… Они всегда хороши, когда их прижмешь к стенке. Будь они прокляты, подлецы…
Он брызгал слюной, размахивал руками, затем вдруг расхохотался и, вынув из кармана плитку черного табаку, откусил от нее с забавной напускной свирепостью.
Другой новичок, с косыми глазами и длинным желтым лицом, все время слушавший, разинув рот, в тени канатного ящика, вдруг вставил визгливым голосом:
— Ну, это во всяком случае обратный рейс. Худо ли, хорошо ли, я сумею постоять за себя, пока не доберусь домой, а уж на ногу себе наступить не позволю. Я им покажу.
Все головы повернулись к нему. Только матрос второй статьи и кот по-прежнему не проявляли никакого интереса. Щуплый паренек с белыми ресницами стоял, уперев руки в боки. Он имел такой вид, будто прошел уже через все унижения и жестокости, какие только существуют на свете, будто его уже били по щекам, пинали ногами, валяли в грязи, царапали, оплевывали, обливали нечистотами. И он, улыбаясь с видом человека, застрахованного от всех зол и бед, обводил взором окружающие лица. Его уши пригибались вниз под тяжестью проломленной твердой шляпы, а разорванные полы черного пальто спускались бахромой на икры его ног. Он расстегнул две последние уцелевшие пуговицы и все увидели, что на его теле нет рубахи. По какой-то несчастной особенности этого человека даже жалкие лохмотья, которые, казалось, никому не могли принадлежать, имели на нем такой вид, точно он где-то украл их. Шея у него была длинная и худая, веки красные, вокруг челюстей висели редкие волосы; сутулые, опущенные плечи напоминали надломленные крылья птицы. Вся левая сторона туловища была облеплена засохшей грязью, из чего следовало заключить, что он недавно ночевал в мокрой канаве. Чтобы спасти свое хилое тело от окончательного разрушения, он сбежал с американского судна, на которое отважился поступить в минуту безумного легкомыслия. Около двух недель он протолкался на берегу в туземном квартале, выпрашивая рюмочку, голодая, ночуя на кучах мусора, бродя под солнцем точно жуткий выходец из царства кошмара. Он продолжал стоять среди бака, отвратительно улыбаясь, в внезапно воцарившейся тишине. Этот чистый белый бак был теперь его убежищем; здесь он мог лодырничать, валяться, спать, есть и проклинать пищу, которую он ел; здесь он мог развернуть свои таланты по части увиливания от работы, плутовства и попрошайничества; здесь он наверно найдет человека, которого можно будет взять лестью, и жертву, которую удастся застращать, — и здесь же он пожнет плоды всего этого. Все они знали, что он за человек. Есть ли на земле уголок, где не был бы знаком этот зловещий свидетель неизменного торжества лжи и наглости? Молчаливый матрос с длинными руками и крючковатыми пальцами, куривший лежа на спине, повернулся на своей койке, хладнокровно осмотрел новичка и пустил к двери, через его голову, длинную струю прозрачной слюны. Все они знали, что это за тип. Это был один из тех, кто не умеет управлять рулем, не умеет сплеснивать, кто увиливает от работы в темные ночи, кто, взобравшись наверх, как безумный, цепляется обеими руками и ногами за реи, осыпая бранью ветер, дождь, темноту; один из тех, кто клянет море в то время, когда другие работают. Такие люди последними уходят на работу и первыми возвращаются с нее. Они почти ничего не умеют делать и не желают делать того, что умеют. Это излюбленные чада филантропов. Симпатичные и достойные существа, которые чрезвычайно точно осведомлены о своих правах, но совершенно не знакомы с мужеством, выносливостью, сознанием долга, преданностью и молчаливой товарищеской верностью, связывающей воедино судовую команду. Это независимые отпрыски разнузданной вольности трущоб, питающие непримиримую ненависть и презрение к суровому труженичеству моря.
Кто-то крикнул ему:
— Как тебя звать?
— Донкин, — ответил он, оглядываясь с наглой веселостью.
— А кто ты будешь? — спросил другой голос.
— Да такой же моряк, как и ты, старина, — ответил тот, и тон его, несмотря на явное желание выразить сердечность, прозвучал наглостью.
— Будь я проклят, если ты, черт возьми, не смахиваешь больше на какого-нибудь погоревшего кочегара, — последовал в ответ убежденный шепот.
Чарли поднял голову и пропищал резким голосом: — «Он настоящий мужчина и моряк», — затем, утерев нос рукой, прилежно нагнулся снова над своей иголкой. Несколько человек рассмеялись. Во взглядах остальных продолжало сквозить недоверие. Новичок-оборванец разгневался.
— Нечего сказать, славно вы встречаете на баке товарища, — прорычал он, — люди вы, или так людоеды бессердечные?
— Не снимай с себя рубашки по первому слову, товарищ, — крикнул Бельфаст, вскакивая перед ним в одно и то же время пламенный, угрожающий и добродушный.
— Уж не слеп ли этот болван? — спросил ничем не смущающийся оборванец, с деланным изумлением оглядываясь по сторонам, — не видит он что-ли, что на мне нет рубахи?
Он вытянул перед собой крест-накрест обе руки и с драматическим видом потряс лохмотьями, прикрывавшими его кости.
— А знаете почему? — продолжал он очень громко. — Проклятые янки хотели выпустить мне кишки, оттого что я стоял за свои права, как полагается. Я англичанин, вот я кто. Ну, они, ясное дело, ополчились на меня, и мне пришлось удрать. Вот и вся штука. Не видали вы что ли никогда человека в крайности? Что же это в самом деле за проклятущий корабль такой? Я до смерти измучен, у меня ничего нет — ни мешка, ни постели, ни рубахи, ни одного лоскуточка, кроме того, что на мне. Однако у меня хватило мужества утереть нос этим янки, а вот посмотрим, хватит ли у вас великодушия, чтобы пожертвовать товарищу пару старых штанов?
Он знал, как завладеть простодушными чувствами этой толпы. Все тотчас же выразили ему свое сочувствие, в форме шутки, пренебрежения или воркотни; затем оно приняло форму подарков. Кто-то запустил в него одеялом, за ним последовала пара сапог, упавших к его грязным ногам; с криком «держи!» — свернутая пара штанов, отяжелевшая от пятен дегтя, ударила его в плечо. А он невозмутимо продолжал стоять посредине, и белая кожа его рук и ног, просвечивая сквозь фантастический узор лохмотьев, говорила о связывающем их общечеловеческом родстве. Порыв великодушия затопил колеблющиеся сердца волной сентиментальной жалости. Их умиляла собственная готовность облегчить нужду товарища. Раздавались крики: «Так и быть, снарядим тебя, старина!» Бормотание: «Никогда не встречал еще парня в такой крайности… бедняга… у меня вот завалялась старая фуфайка… не пригодится ли тебе?., возьми, дружище!..»
Эти дружеские возгласы наполняли бак. Он обходил койки, шлепая своими босыми ногами, и собирал вещи в груду, ища глазами новых подачек. Бесчувственный Арчи небрежно подбросил в кучу старую суконную фуражку с оторванным козырьком. Старый Сингльтон, погруженный в блаженное царство вымысла, продолжал читать, не обращая ни на что внимания. Чарли с бессердечностью юности провизжал:
— Если тебе потребуются медные пуговицы для нового мундира, у меня найдется парочка!
Грязный объект всеобщей благотворительности пригрозил юноше кулаком: