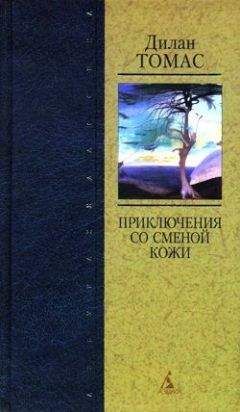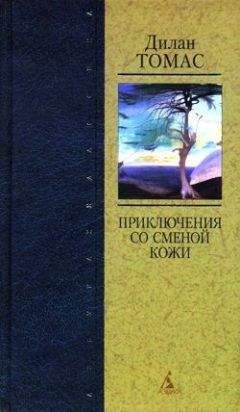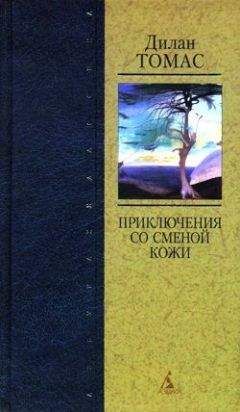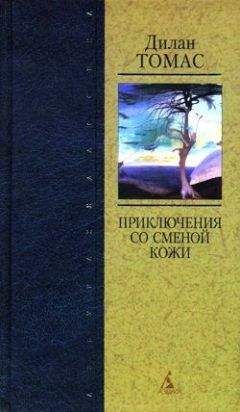Дилан Томас - Портрет художника в щенячестве
– Можно я на поросят посмотрю? – спросил я у Гуилима утром.
Полый дом уже меня не пугал; сбегая вниз завтракать, я наслаждался запахом дерева, новой весенней травки, тихого, запущенного двора с грязно-белой развалюхой-коровником, с пустыми открытыми денниками.
Гуилиму было почти двадцать, он был высокий, сам тощий, как палка, а лицо лопатой. Гуилимом в самый бы раз вскапывать огород. Голос у него был низкий и ломался надвое, когда Гуилим волновался, и он сам для себя пел песни басом и дискантом, всегда на один и тот же тоскливый мотив гимна, и он сочинял гимны в. риге. Он рассказывал про девчонок, они все мерли от любви. «Накинула веревку на дерево, а веревка короткая оказалась, – рассказывал он. – Всадила ножик себе в грудь, а ножик тупой оказался». Мы сидели с ним на соломе в. полумраке затворенного денника. Он ерзал, подняв палец, наклонялся ко мне, и скрипела солома.
– Прыгнула в ледяную воду, раз – и сиганула, – он лез губами прямо мне в ухо, – бултых, и крышка.
Свинарник был в дальнем углу двора. Мы проследовали туда – Гуилим в черном облачении, несмотря на будний день, я в саржевом костюмчике с залатанным задом – мимо трех обыскивавших грязный булыжник кур и кривого колли, который спал, не закрыв свой единственный глаз. С развалившихся служб съезжали гнилые крыши, стены зияли дырами, ставни болтались, облупилась штукатурка, ржавые гвозди торчали из отставших, искореженных досок; тощий вчерашний кот умывался, устроясь между битых бутылочных горлышек на самом верху мусорной кучи, сладко-вонючим конусом тянувшейся к покалеченной кровле. Второго такого хутора не было по всей нашей Богом забытой стране, второго такого же нищего, невозможного, великолепного, как этот остров грязи и мусора, трухи и щебня, где старые чумазые куры чесались и несли мелкие яйца. Утка подавала голос из корыта в заброшенном свинарнике. А молодой человек с кудрявым братишкой через загородку разглядывали свинью, которая, обмакивая в грязь соски, кормила поросят.
– Сколько их тут?
– Пять. Эта сука одного сожрала, – сказал Гуилим. Они барахтались, толкались, вертелись, плюхались то на спинку, то на брюшко, визжали, тыкались в материнские соски пятачками, а мы их считали. Их было четыре. Мы сосчитали опять. Четыре поросенка, четыре голых розовых закорючки торчали кверху, а пятачки внизу жадно припадали к хрюкающей от наслаждения и боли свинье.
– Она, наверно, еще одного сожрала, – сказал я, подобрал скребок, ткнул в свинью, развел слипшиеся щетинки. – А может, лиса через загородку залезла.
– Нет, это не лиса и не свинья, – сказал Гуилим. – Это папаша.
Мне представилось, как дядя, высокий, красный, коварный, держит в обеих ручищах извивающегося поросенка, вонзается ему в ножку зубами и с хрустом отгрызает ее; он перегибается через загородку свинарника, а ножка торчит у него изо рта.
– Неужели дядя Джим поросят ест?
В эту самую минуту он стоял за рушащимся сараем и, по колено в пере, отжевывал живые головы кур.
– Он его на выпивку пустил, – прошипел Гуилим самым своим проникновенным, порицающим шепотом, устремив взор к небесам. – На прошлом Рождестве овцу на плечи и – десять дней не просыхал.
Свинья привалилась поближе к скребку, сосунки визжали в накрывшей их темноте, бились под ее валиками и складками.
– Пошли, я тебе мою часовню покажу, – сказал Гуилим. Он уже забыл про загубленного поросенка и завел рассказ про города, в которых побывал паломником, про Нит, и Бриджент, и Бристоль, и Ньюпорт, где озера, и парки с аттракционами, и светлые, пестрые, бурлящие соблазнами улицы. Мы шагали прочь от свинарника и обездоленной свиньи.
– Я на каждом шагу с актрисами знакомился, – рассказывал Гуилим.
Часовня Гуилима была старой ригой, последней перед полем, стлавшимся до самой реки. Она возвышалась над хутором, стоя на грязном скате. В ней была одна целая дверь с тяжелым замком, но по обе стороны такие щели, что свободно можно войти. Гуилим вынул связку ключей, нежно встряхнул, каждый примерил к замку.
– Самый шик, – сказал он. – Я их в Кармартене ухватил у старьевщика.
В часовню мы вошли через щель.
Пыльный фургон с вымаранным краской именем и крестом из белил на боку стоял посредине.
– Мой амвон, – сказал Гуилим и величаво на него взошел, переступив через сломанное дышло. – Ты на сено садись, только учти, тут мыши, – сказал Гуилим.
Потом он снова добыл из недр самый проникновенный свой голос и возгласил к небесам, обсиженным нетопырями стропилам и клочьям паутины:
– Господи, благослови меня и благослови этот день, благослови Дилана и Твою часовню отныне и вовеки. Аминь. Я тут кое-что здорово усовершенствовал.
Я сидел на сене и смотрел, как проповедует Гуилим, и слушал, как поднимается, ломается, опадает до шепота его голос, вдруг плывет валлийским распевом, заливается победно, диковато и нежно. Солнце сквозь щель натекало на его молитвенные плечи, он говорил:
– О, Господи, Ты всегда и везде, Ты в росе на заре и в вечернем морозе, в городах и весях, в проповеднике и грешнике, в могучем ястребе и воробье. Ты видишь наши сердца и утробы. Ты нас видишь, когда солнце зайдет. Ты нас видишь, когда на небе ни звезды, и в могильной тьме, и в глубоких-глубоких глубинах. Ты всечасно за нами следишь, Ты нас видишь и по темным углам и на широких просторах, и под одеялом, когда мы громко храпим, и в страшной черной тени, в страшной черной тени. Все-то Ты видишь. О Господи, Ты прямо, ей-богу, как кот.
Он разомкнул и уронил руки. Часовня в риге вся затихла, пробитая лучами насквозь. Некому было вскричать «Аллилуйя» или «Благословенно имя Господне». Я был еще мал и влюблен в тишину. Снаружи крякнула утка.
– А теперь сбор пожертвований, – сказал Гуилим. Он вылез из фургона, покопался в сене под ним и протянул мне помятую жестянку:
– У меня нет настоящей кружки.
Я сунул в жестянку два пенни.
– Обедать пора, – сказал он, и мы без единого слова прошагали обратно к дому.
Когда мы все доели, Энни сказала:
– Ты уж вечером-то костюмчик хороший надень. Который в полосочку.
Вечер готовился торжественный, потому что мой лучший друг Джек Уильямс из Суонси приедет на машине со своей богатой матерью и все две недели каникул Джек будет жить тут вместе со мной.
– А где дядя Джим?
– На базаре он, – сказала Энни.
Гуилим соорудил из своего носа поросячий пятачок. Мы-то знали, где дядя. В пивной сидит, на плечах телка, из карманов – по поросенку и на губах бычья кровь.
– А эта миссис Уильямс – она очень богатая? – спросил Гуилим.
Я сказал, что у нее три автомобиля и два дома, и я прилгнул.
– Она самая большая богачка во всем Уэльсе, она раньше мэршей была, – сказал я. – Мы в зале будем пить чай?
Энни кивнула.
– И у нас большая банка персиков, – сказала она.
– Эта старая банка с Рождества в буфете стоит, – сказал Гуилим. – Мамаша ее все для такого случая приберегала.
– Такие вкусные персики, – сказала Энни. И пошла наверх наряжаться.
Зала пахла нафталином, мехом, и сыростью, и затхлостью, и гнилыми цветами. Два стеклянных ящика на деревянных козлах тянулись вдоль окон. Заросший огород приходилось разглядывать в просветах между ног у лисьего чучела, над головой куропатки, из-за испятнанной красной краской грудки вальдшнепа. Еще ящик – с фарфором и оловом, побрякушками, брошками и фестончиками – приткнулся к кривоногому столику; на лоскутной скатерти – лампа, Библия с застежками, большая ваза, в которую влезла, очевидно собираясь купаться, женщина, закутанная до бровей, и фотография в рамке: дядя Джим, Энни и Гуилим улыбались горшочку с папоротником. На каминной полке было двое часов, несколько собак, медные подсвечники, пастушка, мужчина в килте и подцвеченный снимок Энни – высокая прическа, груди наружу. Были тут стулья – вокруг стола и по всем углам, прямые, гнутые, крашеные, мягкие, и у каждого на спинке кружевная салфеточка. Фисгармония пряталась под белой латаной простыней. Камин завален – медные щипцы, совки, кочерги. Залу редко пускали в ход. Энни чистила и блистала ее раз в неделю, но все равно ковер выпускал серое пыльное облако, едва на него ступишь, и пыль слоем лежала на стульях, и клубья ваты, грязное черное нутро, длинный черный конский волос перли из расщелин дивана. Я подул на стекла, чтоб посмотреть фотографии. Гуилим, коровы и замки в горах.
– Давай переодевайся, – сказал Гуилим.
Я хотел ходить в моем старом костюме, как положено человеку в деревне, и чтобы были в навозе и при каждом шаге чавкали мои сапоги, и смотреть, как телятся коровы, как их покрывает бык, и сбежать в балку, промочить ноги, орать: «Эй ты, блин горелый!» – и распугивать кур, и разговаривать соответственным голосом. Но я пошел наверх и надел тот костюмчик в полосочку.
Из своей комнаты я услышал, как во двор въехал автомобиль. Джек Уильямс со своей матерью.
Гуилим снизу кричал: