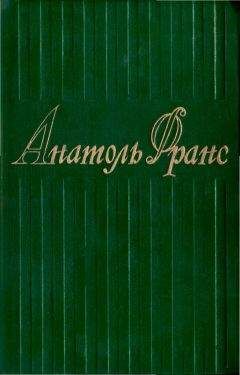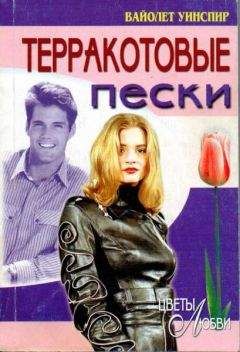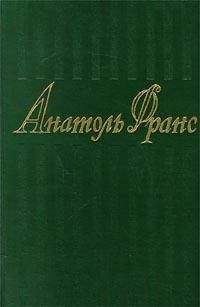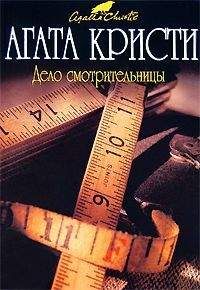Анатоль Франс - Красная лилия
Он вычислил в уме и пришел к выводу, что в настоящее время ей наверно уже лет тридцать.
Друг за другом в комнату вошли старая дама, с достоинством, полным скромности, выступавшая в венце седых волос, и маленький живой человечек с хитрым взглядом: то были г-жа Марме и Поль Ванс. Затем, страшно прямой, с моноклем в глазу, появился Даниэль Саломон, законодатель моды. Генерал незаметно удалился.
Заговорили о романе, появившемся за последнюю неделю. Г-жа Марме, оказывается, несколько раз обедала вместе с его автором, человеком молодым и очень приятным. Поль Ванс находил книгу скучной.
— Все книги скучны, — вздохнула г-жа Мартен. — Но люди еще скучнее. И более требовательны.
Госпожа Марме сообщила, что муж ее, у которого был прекрасный литературный вкус, до конца своих дней с отвращением относился к натурализму.
Ее покойный муж был членом Академии надписей, и она появлялась в гостиных, гордая памятью знаменитого ученого, впрочем всегда кроткая и скромная, в черном платье, с красивыми седыми волосами.
Госпожа Мартен сказала Даниэлю Саломону, что хочет посоветоваться с ним по поводу фарфоровой вещицы — группы детей.
— Это сделано на заводе Сен-Клу. Вы мне скажете, нравится ли вам. И вы тоже, господин Ванс, откроете мне свое мнение, если только не презираете подобные пустяки.
Даниэль Саломон с угрюмым высокомерием посмотрел в монокль на Поля Ванса.
Поль Ванс оглядывал гостиную.
— У вас красивые вещи, сударыня, и в этом нет еще ничего особенного. Но у вас только красивые вещи, и они к вам идут.
Она не скрыла, какое удовольствие доставили ей его слова. Из всех, кого она принимала у себя, одного Поля Ванса она считала действительно умным человеком. Она оценила его еще до того, как его книги создали ему громкую известность. Слабое здоровье, хандра, усидчивость в работе отдаляли его от светского общества. Этот маленький желчный человечек не отличался приятностью. Но она старалась привлечь его к себе. Она очень высоко ставила его глубокую иронию, его нелюдимую гордость, его талант, созревший в одиночестве, — и справедливо восхищалась Полем Вансом, как превосходным писателем, автором прекрасных этюдов об искусстве и о нравах.
Гостиная понемногу наполнилась блестящей толпой гостей. В креслах, расставленных широким кругом, теперь сидели г-жа де Врессон, о которой рассказывали ужасающие истории и которая, после двадцати лет скандалов, еще не совсем забытых, сохранила детские глаза и девически чистое лицо; старуха де Морлен, пронзительным голосом бросавшая острые словечки, бесцеремонная, порывистая, похожая на пловца, окруженного пузырями, — так бурно колыхалось ее чудовищное, огромное тело; г-жа Ремон, жена академика; г-жа Гарен, жена бывшего министра, еще три дамы; прислонясь спиной к камину, стоял г-н Бертье д'Эзелль, редактор «Журналь де Деба»[8] и депутат; он с важным видом поглаживал седые бакенбарды, а г-жа де Морлен ему кричала:
— Ваша статья о биметаллизме[9] — это чудо, это прелесть. Особенно конец — сущий восторг.
В глубине гостиной молодые члены клубов, стоя, необычайно серьезные, сюсюкали между собой:
— И что же он сделал, чтобы получить доступ на охоту к принцу?
— Он — ничего. Зато его жена — все.
У них была своя философия. Ни один из них не верил в людские обещания:
— Терпеть не могу таких субъектов: душа нараспашку, — что на уме, то и на языке… «Вы выставляете в клубе свою кандидатуру? Обещаю вам, что опущу белый шар…» Да будет ли он белый? Как алебастр! Как снег! Приступают к баллотировке. Трах — все черняки! Жизнь, как подумаешь, скверная штука.
— Так ты и не думай, — сказал ему кто-то.
Даниэль Саломон, присоединившийся к ним, целомудренным голосом нашептывал им альковные тайны. И после каждого из диковинных разоблачений, касавшихся г-жи Ремон, г-жи д'Эзелль, княгини Сенявиной, он небрежно прибавлял:
— Это же всем известно.
Мало-помалу толпа гостей поредела. Оставались еще только г-жа Марме и Поль Ванс.
Он подошел к графине Мартен и спросил:
— Когда вам будет угодно, чтобы я представил вам Дешартра?
Он уже во второй раз спрашивал ее об этом. Она не любила видеть новые лица. И с полным равнодушием она ответила ему:
— Вашего скульптора? Да когда хотите. Я на Марсовом поле видела медальоны его работы, они превосходны. Но он мало работает. Он дилетант, не правда ли?
— Он — человек утонченный. Работать для денег ему не надо. Он любовно и медлительно ласкает свои изваяния. Но не поддавайтесь заблуждению, сударыня: он и знает и чувствует; это был бы мастер, если бы он не жил один. Я с ним знаком с детства. Его считают неблагожелательным и мрачным. А он — человек страстный и застенчивый. Чего ему недостает, чего ему всегда будет недоставать, чтобы достичь высшего совершенства в своем искусстве, — так это душевной простоты. Он тревожится, терзается и губит лучшие свои замыслы. На мой взгляд, ему больше подошло бы заниматься поэзией или философией, чем скульптурой. Он много знает, и вас поразит богатство его ума.
Госпожа Марме благосклонно подтвердила это.
Она пользовалась расположением света, сама выказывая ему расположение. Она много слушала и мало говорила. Держалась очень любезно и придавала еще большую цену своей любезности тем, что не слишком спешила с ее проявлениями. Потому ли, что ей действительно нравилась г-жа Мартен, потому ли, что она умела в сдержанной форме выразить свое предпочтение каждому дому, в котором бывала, но только она с довольным видом, словно какая-нибудь бабушка, грелась у этого камина в чистейшем стиле Людовика XVI, гармонировавшем с ее красотой — красотой благосклонной старой дамы. Ей недоставало здесь только ее болонки.
— Как поживает Тоби? — спросила ее г-жа Мартен. — Господин Ванс, вы знакомы с Тоби? У него длинная шелковая шерстка и восхитительный черный носик.
В то время как г-жа Марме наслаждалась похвалами по адресу Тоби, появился некий старик, румяный и белокурый, с вьющимися волосами, близорукий, почти слепой, в золотых очках и коротконогий; налетая на мебель, отвешивая поклоны пустым креслам, порывисто устремляясь к зеркалам, он, наконец, чуть не наткнулся крючковатым своим носом на г-жу Марме, взглянувшую на него с негодованием.
То был г-н Шмоль, член Академии надписей, пухленький и улыбающийся; он гримасничал; обращался к графине Мартен с мадригалами, произнося их тем грубым и густым голосом, каким евреи, его предки, требовали денег от своих должников, эльзасских, польских и крымских крестьян. Фразы его были тягучи и неповоротливы. Этот крупнейший филолог, член Французской академии, знал все языки, кроме французского. И г-жу Мартен забавляли его любезности, тяжелые и ржавые, как железный лом в лавке старьевщика; но порой среди них попадался какой-нибудь засохший цветок из Антологии[10]. Г-н Шмоль был ценитель поэзии и женщин и был неглуп.
Госпожа Марме сделала вид, что незнакома с ним, и вышла, не ответив на его поклон.
Исчерпав свои мадригалы, г-н Шмоль стал мрачен и жалок. Стонам его не было конца. Он сетовал на собственную участь: было у него и мало орденов и мало синекур, и недостаточно хороша была казенная квартира, в которой он жил с женой и пятью дочерьми. В жалобах его было некоторое величие. В нем жила душа Иезекииля и Иеремии[11].
По несчастью, склонившись к самому столу, он разглядел сквозь золотые очки книгу Вивиан Белл.
— А-а! «Изольда белокурая», — с горечью воскликнул он. — Вы читаете эту книгу, сударыня? Ну, так да будет вам известно, что мадемуазель Вивиан Белл украла у меня одну надпись и что к тому же она исказила ее, переложив стихами! Вы найдете ее на странице сто девятой.
— Минувшая любовь, не сетуй запоздало, —
Ведь что ушло навек, того и не бывало.
— О нет, пускай душа отчаянья не прячет,
Пусть тень оплачет тень, мечта мечту оплачет![12]
Обратите внимание, сударыня: «Пусть тень оплачет тень»! Так вот, эти слова — буквальный перевод надгробной надписи, которую я первый издал и прокомментировал. Как-то раз в прошлом году, во время обеда у вас, оказавшись за столом рядом с мадемуазель Белл, я процитировал ей эту фразу, и она ей очень понравилась. По ее просьбе я на другой же день перевел на французский язык всю эту надпись и послал ей. И вот я нахожу ее в сборнике стихов, изуродованную и искаженную, под заголовком: «На священном пути…» Священный путь — это же я!
И он с шутовской досадой повторил:
— Это я, сударыня, священный путь.
Он был недоволен, что поэтесса не упомянула о нем в связи с этой надписью. Ему хотелось бы видеть свое имя в заглавии стихотворения, в самих стихах, в рифме. Ему всегда везде хотелось видеть свое имя. И он искал его в газетах, которыми были набиты его карманы. Но он не был злопамятен. Он не сердился на мисс Белл. Он охотно согласился, что она — личность весьма выдающаяся и что сейчас как поэтесса она приносит Англии величайшую честь.