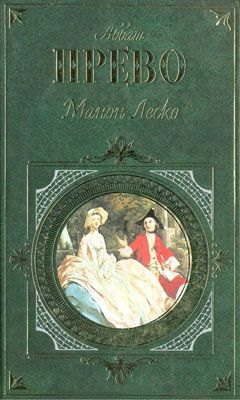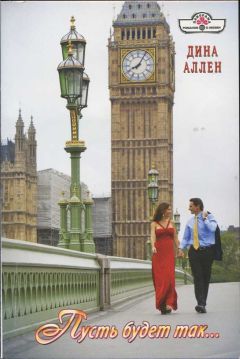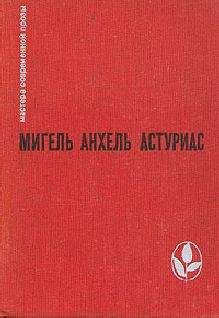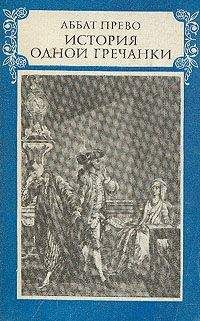Мигель Астуриас - Синьор президент
– Эй, ты! – возмущался Москит. – Чего меня тащишь? Небось потому, что бедный? Бедный, да честный! Я тебе не сын – понял? Не кукла какая-нибудь. Не идиот, чтобы меня волочить! Видел я таких в богадельне, у америкашек! Три дня не ели, в простынях на окнах сидели, чисто желтый дом. Натерпелись!
Арестованных нищих препровождали в одну из «Трех Марий» – так назывались самые тесные и темные камеры. Москит вполз туда. Его голос, заглушённый было звяканьем железных запоров и бранью тюремных сторожей, вонявших куревом и сырым бельем, снова обрел силу под сводами подземелья:
– Фу-ты ну-ты, сколько полицейских! Ох ты, ух ты, сколько тут легавых!
Нищие тихо скулили, как собаки, больные чумкой. Их мучила темнота – они чувствовали, что никогда больше им не отодрать ее от глаз; мучил страх – они попали в дурное место, где столько народу поумирало от голода и жажды; но больше всего они боялись, что их пустят на мыло, как дворняг, или зарежут на мясо для этих жандармов. Жирные лица людоедов тускло светились в темноте – щеки толстые, как задница, усы будто коричневые слюни.
В камере встретились студент и пономарь.
– Если не ошибаюсь, вы первый сюда попали? Сперва вы потом я, не так ли?
Студент говорил, чтобы не молчать, чтобы исчез отвратительный комок в горле.
– Да, кажется… – отвечал пономарь, пытаясь разглядеть в темноте лицо собеседника.
– А… простите… разрешите узнать, за что вас арестовали?
– Говорят, за политику…
Студент содрогнулся и с трудом произнес:
– Меня тоже…
Нищие шарили в темноте, искали драгоценные свои котомки. В кабинете начальника полиции у них забрали все, вывернули карманы, спички горелой не осталось. Распоряжения были даны самые строгие.
– По какому же вы делу? – настаивал студент.
– Без всякого дела. Я арестован по личному приказу Президента!
Пономарь чесался спиной об стену, – заедали вши.
– Вы были…
– Не был! – сердито отрезал пономарь. – Не был!
В эту минуту заскрипели дверные петли, и дверь широко открылась, впуская еще одного нищего.
– Да здравствует Франция! – крикнул, входя, Колченогий.
– Меня арестовали… – твердил пономарь.
– Да здравствует Франция!
– …за преступление, в котором я неповинен. Все дело в ошибке. Представьте себе, вместо сообщения о минувшем трауре я снял у себя в церкви сообщение об именинах матушки Сеньора Президента.
– Как же они узнали? – шепотом удивлялся студент, а пономарь осторожно, кончиками пальцев, утирал слезы, словно вытаскивал их из глаз.
– Сам не пойму… Такое мое счастье… Как-то прознали и пришли за мной… Привели к начальнику, он меня бил по лицу и отправил вот сюда. Сперва я тут один был, в одиночке, потому что обвинен в революционных действиях.
Скрючившись в темноте, нищие плакали от страха, от холена и от голода. Иногда им удавалось заснуть, и, словно |!
Поисках выхода, тыкалось в стены камеры дыханье брюхатой немой.
Бог знает в котором часу – должно быть, около полуночи – их повели куда-то. Они – свидетели по политическому делу. Так сказал им пузатый человек. У него были серые, как xoлст, сморщенные щеки и утиный нос, пышные усы с изящной небрежностью обрамляли толстые губы, глаза прятались под тяжелыми веками. Он спрашивал каждого по очереди и всех вместе, известен ли им преступник (или преступники), совершивший прошлой ночью убийство у Портала Господня.
Комнаты освещала керосиновая лампа с длинным фитилем, и слабый ее свет с трудом проходил сквозь воздух, словно сквозь линзу, наполненную водой. Где же стол? Где стена? Где герб, ощетинившийся клинками, как пасть лютого тигра? Где ремни полицейского?
Услышав ответ нищих, военный прокурор подскочил на месте.
– Вы у меня заговорите! – заорал он, тараща из-за очков глаза василиска, и яростно стукнул кулаком по письменному столу.
Но нищие один за другим говорили, что полковника убил Пелеле, и печально, как души чистилища, передавали одни и те же подробности преступления, очевидцами которого они были.
По знаку прокурора полицейские, томившиеся у дверей, пипками загнали нищих в пустую комнату. С потолка свешивалась длинная веревка, едва заметная в полумраке.
– Его Пелеле убил! – кричал первый из нищих, надеясь, что за чистосердечное признание его перестанут пытать. – Пелеле! Пелеле! Христом-богом – Пелеле! Дурачок! Дурачок! Дурачок! Пелеле! Он! Он! Он! Все видели! Пелеле-дурачок!
– Вас подговорили так отвечать. Со мной эти штучки не пройдут! Признавайтесь, а то убью! Не знали? Так знайте! Слышите? Знайте!
Голос прокурора и шум крови сливались в голове нищего, подвешенного за большие пальцы рук. Он кричал, не переставая:
– Пелеле убил! Пелеле! Господи, Пелеле! Пелеле! Пелеле!
– Врешь! – рявкнул прокурор, и чуть позже: – Врешь, собака! Я сам скажу. Попробуй только не согласиться! Сейчас тебе скажу, кто его убил… Генерал Эусебио Канаяос и лиценциат Абель Карвахаль! Вот кто!
Ледяное молчание. А затем… затем жалобный стон, другой, третий… и наконец: «Да…» Веревку отпустили, и Вдовушка рухнул на пол. Темные его щеки, залитые потом и слезами, блестели, словно уголь под дождем. Нищие тряслись, как бездомные собаки, которых травят полицейские, и все один за другим подтверждали слова прокурора. Все, кроме Москита. Пришлось подвесить его за пальцы, потому что – наполовину погребенный, как все безногие, – перекосившись от ужаса, он упорно твердил, что нищие врут со страху и сваливают на невинных преступление, за которое отвечает один Пелеле.
– Отвечает! – придрался к слову прокурор. – Как ты смеешь говорить, что отвечает идиот? Вот и видно, что врешь! Отвечает! Он не несет ответственности!
– Это уж пусть он сам…
– Выдрать его как следует! – предложил один из полицейских.
Другой ударил старика по лицу плеткой из бычьих жил.
– Говори! – орал прокурор. – Говори, а то провисишь всю ночь!
– Да я слепой…
– Скажи, что это не Пелеле.
– Не могу. Я правду сказал. Что я, баба?
Плеть из бычьих жил дважды хлестнула его по губам.
– Ты слепой, а не глухой. Скажи мне правду. Расскажи, как твои товарищи…
– Ну, ладно, скажу, – глухо проговорил Москит. Прокурор торжествовал победу. – Слушай, старый боров. Его убил Пелеле.
– Сволочь!
Но полчеловека не услышал брани прокурора. Когда отпустили веревку, тело Москита (вернее – его торс, потому что ног у него не было) рухнуло на пол, как сломанный маятник.
– Старый врун! Все равно его показание не имеет силы – он слеп, – сказал прокурор, проходя мимо трупа.
И, торопясь доложить Сеньору Президенту о первых результатах следствия, он вышел и сел в карету, запряженную тощими клячами, освещенную тусклыми фонарями, глазами смерти. Жандармы кинули в мусорную телегу мертвого Москита и отправились на кладбище. Нищие расходились по улицам. Глухонемая ревела от страха, прислушиваясь к толчкам в своем огромном брюхе.
III. Бегство Пелеле
По узким, извилистым, запутанным улицам окраин мчался Пелеле. Дикий его крик не тревожил дыханья неба и сна горожан. Равные в зеркале смерти, неравные в житейской борьбе, в которую снова предстояло вступить с восходом солнца, спали люди. У одних нет ничего, тяжелым трудом зарабатывают они свой хлеб. У других есть все: безделье – привилегированный промысел. Друзья Сеньора Президента – домовладельцы (сорок домов, пятьдесят домов…), ростовщики (девять процентов в месяц, девять с половиной, десять…), крупные чиновники (шесть должностей, семь, восемь…) – наживаются на концессиях, на ломбардах, титулах, на индейцах, на водке, на кабаках и на продажных газетах.
Гнилая кровь зари окрасила горы – края глубокой воронки, в которой мелкой перхотью рассыпался город. По улицам, темным, как подземный ход, прошли ремесленники – призраки несуществующего мира, воссоздаваемого с каждым рассветом. Позже вышли чиновники, приказчики и школяры. Часов в одиннадцать, когда солнце поднялось высоко, появились важные господа – нагулять аппетит к завтраку или сговориться о каком-нибудь дельце с влиятельным другом. В катакомбах улиц еще было тихо, разве что прошуршит крахмальными юбками девушка, которая не знает покоя, крутится, чтобы помочь семье, – сбивает масло, перепродает вещи, торгует требухой в мясном ряду, хлопочет с самой зари. А когда воздух засветится белым и розовым, словно цветок бегонии, просеменят по улице тощие машинистки, и наконец выползут на солнышко надутые дамы – посидеть па балконе, посовещаться со служанкой о только что виденном сне, посудачить о прохожих, погладить кошку, почитать галету или поглядеться в зеркало.
То ли сон, то ли явь – бежал Пелеле, собаки гнались за ним, гвоздики дождя впивались в него. Бежал куда глаза глядят, обезумев от страха, высоко воздев руки, задыхаясь; бахромка слюны свисала с высунутого языка. По сторонам мелькали Двери и двери, двери и окна, окна и двери… Телеграфный столб. Он останавливался, защищаясь рукой от телеграфных столбов, но, убедившись в их безобидности, смеялся и снова бежал, словно от погони. Бежал все быстрее, быстрее, и ему казалось, что туманные стены тюрьмы отдаляются от него.