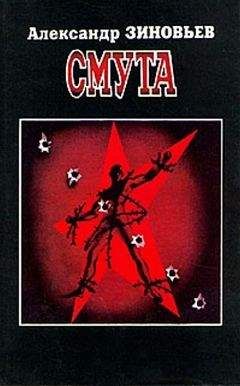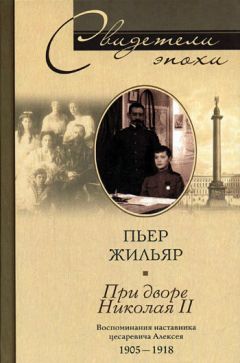Ромен Роллан - Пьер и Люс
Понять тревогу Пьера мог бы только его старший брат. Пьер обожал Филиппа, как часто обожают младшие (ревниво оберегая свой тайну) старших — брата или сестру, случайного знакомого, порой даже мимолетного спутника, уже скрывшегося из виду, всех, кто олицетворяет в их глазах образ того, кем они хотели бы стать и кого они одновременно хотели бы любить. Целомудренный, но уже смутный жар души — предвестник будущих противоборствующих страстей! Старший брат замечал это наивное обожание, и оно льстило ему. В ту пору он старался читать в сердце Пьера и многое осторожно объяснял ему: хотя и более мужественный, чем Пьер, он был человеком того же склада; эти достойнейшие из мужчин, сохраняя в душе женскую мягкость, не стыдятся этого. Но пришла война и оторвала его от привычного труда, от мечтаний науки, от его мечтаний двадцатилетнего юноши, от дружеской близости с младшим братом. В самозабвенном опьянении первых дней войны он бросил все и, подобно большой птице, ринулся в даль, ослепленный героическим и нелепым упованием, что своими когтями и клювом он покончит с войной и восстановит на земле мир. С тех пор эта птица два-три раза возвращалась в гнездо, с каждым разом, увы, все более пощипанной. Он расстался со многими иллюзиями, но говорить об этом ему было тяжело. Ему было стыдно, что он во все это верил. Как глупо, что он не разглядел подлинный лик жизни! Теперь он с ожесточением стремился разбить прежние иллюзии и стоически принять жизнь, какой бы она ни была! Он бичевал не только самого себя; с болезненным раздражением ополчался он на подобные же юношеские иллюзии, которые находил в душе своего брата. Когда, в первый приезд Филиппа, Пьер бросился к нему, сгорая от желания раскрыть перед ним свое замурованное сердце, его сразу же охладило обращение старшего брата, правда по-прежнему ласковое, но с оттенком какой-то горькой иронии. Вопросы, готовые сорваться, замерли на устах Пьера. Филипп, угадывая их, одним небрежным замечанием или взглядом обрывал его на полуслове. После двух-трех попыток Пьер, душевно раненный, ушел в себя. Он не узнавал брата.
Зато Филипп его узнавал. Он узнавал в нем себя самого, каким он был еще недавно и каким никогда уже не будет. И за это он мстил брату. Затем он раскаивался, но не подавал вида и продолжал в том же духе. Оба страдали, и, как это часто бывает в жизни, общее страдание, вместо того чтобы сблизить, отчуждало их. Но в их положении была некоторая разница: Филипп знал, что они страдают вместе, а Пьер думал, что страдает в одиночестве и нет друга, которому он мог бы открыться.
Почему же не обратился он к своим сверстникам, к школьным товарищам? Казалось бы, этим мальчикам следовало теснее сплотиться, искать взаимной поддержки? Но этого не было. Наоборот, обстоятельства роковым образом отдаляли их друг от друга и заставляли держаться небольшими группами и, даже внутри этих групп, замыкаться и обособляться. Самые недалекие из них вслепую, очертя голову бросились в водоворот войны. Но большинство стояло в стороне и не чувствовало никакой связи со старшим поколением; они совсем не разделяли их страстей, надежд и ненависти и смотрели на их фанатические действия, как трезвые смотрят на пьяных. Но что могли они сделать? Некоторые пытались выпускать небольшие политические «ревю», но цензура душила их, не давала им дышать, и они угасали на первых номерах. Вся мыслящая Франция задыхалась от недостатка воздуха, словно под стеклянным колпаком. Самые достойные из этой молодежи, слишком слабые, чтобы бороться, и слишком гордые, чтобы жаловаться, знали, что нож войны уже занесен над ними. Ожидая своей очереди идти на бойню, они издали наблюдали все происходящее и молча, каждый про себя, выносили суждение, полное иронии и презрения. Из духа противоречия жалкому стадному чувству они культивировали своеобразный умственный и художественный эготизм и идеалистический сенсуализм, преследуемое «я» отстаивало свои права, не желая единения с человечеством. Это пресловутое единение представало перед подростками лишь как совместно содеянное и совместно пережитое убийство. Преждевременный опыт развеял их иллюзии; они познали цену этим иллюзиям на примере старших, которые, утратив их, тем не менее платили за них кровью. Было поколеблено даже их доверие к сверстникам, да и вообще к человеку. Вдобавок в те времена доверчивость обходилась дорого. Что ни день — новый донос: беседы в дружеском кругу, угаданные мысли — все получало огласку, а усердие шовинистически нестройного шпика награждалось и поощрялось правительством. И все вместе взятое — уныние, презрение, осторожность, стоическое сознание своего духовного одиночества — не располагало молодых людей к откровенности.
Пьер не мог найти среди них Горацио, которого страстно ищут юные, восемнадцатилетние Гамлеты. Ему претило отдавать свои мысли на суд общественного мнения (этой публичной девки), но он жаждал свободно поделиться ими с избранным другом. Его слишком нежное сердце тяготилось одиночеством. Он страдал от страданий всего человечества. Оно сокрушало его бременем горя, тяжесть которого он преувеличивал: ведь как бы там ни было, человечество несет его, стало быть, шкура у него грубее, чем тонкая кожица еще не возмужавшего юноши. Но чего он не преувеличивал, что угнетало его сильнее, чем всемирное страдание, это всеобщее отупение.
Не страшно страдать, не страшно умереть, когда видишь в этом смысл. Жертвовать собой прекрасно, когда знаешь, ради чего. Но какой смысл в глазах юноши может иметь мир, раздираемый распрями? Чем может привлечь честного и духовно здорового юношу грубая схватка народов, сцепившихся, как бараны над пропастью, куда им всем предстоит рухнуть? Между тем дорога достаточно широка для всех. Откуда же эта жажда самоистребления? Для чего эти гордые собой отечества, эти государства, живущие грабежом, эти народы, которым внушают, что их долг — убивать? Для чего это всемирное побоище? Это взаимопожирание живых существ? Для чего эта кошмарная, нескончаемая, чудовищная цепь жизни, каждое из звеньев которой вонзает зубы в затылок соседа, насыщается его плотью, наслаждается его муками и на его смерти созидает свою жизнь? Для чего эта борьба, для чего эти муки? Для чего смерть? Для чего жизнь? Для чего? Для чего?
Когда сегодня вечером юноша вернулся домой, «для чего» молчало.
Между тем все как будто было по-прежнему. Он у себя в комнате, заваленной книгами и бумагами. Вокруг — знакомые звуки: на улице сирена возвещает конец воздушной тревоги; на лестнице, возвращаясь из подвала, оживленно болтают соседи, этажом выше хо дит и ходит из угла в угол старик, все поджидая сына, без вести пропавшего вот уже несколько месяцев. Но тревога, притаившаяся здесь, когда он уходил, исчезла.
Иногда неполный аккорд, резнув слух, оставляет душу в смятении, пока не прибавится нота, которая объединит враждебные или просто равнодушно-чуждые элементы, подобные незнакомым еще между собою гостям, ожидающим, чтобы их представили друг другу. Но вот лед разбит, и гармония течет, охватывая ваше существо. Такого рода химическое превращение произвело в душе Пьера это теплое мимолетное прикосновение. Пьер не отдавал себе отчета, не задумывался, почему произошла перемена; он только чувствовал, что всегдашняя враждебность окружающего мира вдруг смягчилась. Часами изводит вас острая головная боль; и вдруг вы замечаете, что ее уже нет; как случилось, что она вас отпустила? Только чуть-чуть еще стучит в висках, напоминая о ней. Пьер отнесся недоверчиво к этому внезапному успокоению. Он боялся, что боль утихла лишь на время, коварно притаилась, чтобы потом вспыхнуть с новой силой. Он знал, какое умиротворение дарит нам искусство. Когда наши глаза радует божественная соразмерность линий и красок и наш чуткий слух ласкают дивные переливы многозвучных аккордов, рассыпаясь и сливаясь согласно законам гармонических чисел, нас объемлет мир и затопляет блаженство. Но это озарение нисходит на нас откуда-то извне: как бы от далекого солнца, в лучах которого, завороженные, мы парим над жизнью. Это длится недолго — и мы снова падаем на землю. Искусство — лишь мимолетное забвение действительности. И Пьер боязливо ждал, что все это пройдет. Но нет, на этот раз излучение шло из глубины души. Ничто житейское не было забыто. Но все было в согласии: воспоминания и новые мысли; и все окружающее — предметы, книги, бумаги — как бы оживало, становилось интересным, чего давно уже не было.
В течение нескольких месяцев его умственный рост был скован, — так юное деревцо в полном цвету побивает дыхание «ледяных святых». Пьер не принадлежал к тем практическим юнцам, которые, пользуясь университетскими льготами для юных призывников, ожидающих дня мобилизации, спешили приобрести диплом под снисходительным взглядом экзаменаторов. Не владела им и бессмысленная жадность, с какой многие, в предчувствии близкой смерти, захлебываясь, глотали знания, уже ни на что им не нужные. Всегдашнее ощущение пустоты там, в конце, как и здесь, под ногами, — пустоты, прикрытой жестокими и обманчивыми иллюзиями жизни, — сдерживало все его порывы. Он увлекался какой-нибудь книгой, предавался размышлениям — и вдруг остывал, охваченный безнадежностью. На что ему все это? Для чего учиться? Для чего обогащать себя, если придется все потерять, все бросить, если ничто вам не принадлежит? Чтобы видеть смысл в какой-нибудь деятельности или науке, надо видеть смысл и в самой жизни. Ни усилия ума, ни мольбы сердца не помогали ему обрести этот смысл… И вот он появился неожиданно сам собой… Жизнь приобрела смысл…