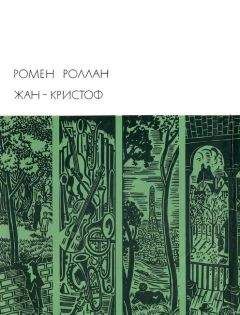Ромен Роллан - Жан-Кристоф. Книги 6-10
Антуанетта была хорошенькая брюнетка с приветливым, простодушным личиком чисто французского типа — округлый овал, блестящие глаза, выпуклый лоб, изящный подбородок, прямой носик, — «тонкий нос благородства необычайного (как галантно выражается один из старых французских портретистов), каковой чуть приметно морщился и оживлял все лицо, указывая, сколь тонки были чувствования молодой особы, когда она благоволила говорить или слушать». От отца Антуанетта унаследовала жизнерадостность и беспечность.
Оливье был хрупкий блондин небольшого роста, как отец, но совсем иного характера. В детстве он подолгу серьезно хворал, отчего здоровье его пошатнулось, и хотя домашние всячески холили его, он с ранних лет стал вялым, задумчивым мальчуганом, боялся смерти и был беззащитен перед лицом жизни. Рос он одиноко: от природы нелюдимый, он сторонился и дичился сверстников — ему было с ними не по себе; их игры и драки его отталкивали, их грубость приводила в ужас. Он терпел их побои не от недостатка храбрости, а от застенчивости: он боялся защищаться, чтобы не сделать кому-нибудь больно. Мальчики совсем бы его замучили, если бы не положение отца. Оливье был очень нежным и болезненно чувствительным ребенком: малейшее слово, ласка, упрек доводили его до слез. Сестра, натура более здоровая, чем он, дразнила его, называла «Фонтанчик».
Брат и сестра горячо любили друг друга, но они были слишком разными, чтобы жить одной жизнью. Каждый шел своим путем, увлекаемый своей мечтой. Антуанетта с возрастом все хорошела; ей об этом говорили, она и сама это знала, радовалась и уже видела себя в будущем героиней романов. Тщедушного меланхолика Оливье коробило всякое соприкосновение с внешним миром, и он искал прибежища в своем глупеньком ребяческом воображении, рассказывая себе разные истории. У него была страстная, чисто женская потребность любить и быть любимым; живя одиноко, в стороне от сверстников, он создал себе двух-трех вымышленных друзей: одного звали Жан, одного Этьен, а еще одного — Франсуа; он был постоянно с ними, а не с теми, кто его окружал на самом деле. Спал он мало и вечно о чем-то грезил. Утром, когда его удавалось поднять с постели, он задумывался, свесив с кровати голые ножки или же натянув оба чулка на одну ногу, что тоже случалось нередко. Он задумывался, погрузив обе руки в умывальний таз. Он задумывался за партой, не дописав строчки или заучивая урок; он часами витал в мечтах, а потом вдруг с ужасом обнаруживал, что не успел ничего выучить. Когда его окликали за обедом, он пугался и отвечал не сразу, а начав говорить, забывал, что хотел сказать. Он жил в полудреме, убаюканный своими детскими думами и однообразными, привычными впечатлениями медленно текущей провинциальной жизни: большой пустынный дом, половина которого была необитаемой; огромные, страшные подвалы и чердаки; наглухо запертые, таинственные комнаты с закрытыми ставнями, с мебелью в чехлах, с завешенными зеркалами, закутанными люстрами; старинные фамильные портреты с застывшими улыбками; гравюры времен Империи — смесь игривой добродетели и героизма — «Алкивиад и Сократ у куртизанки», «Антиох и Стратоника», «История Эпаминонда», «Нищий Велизарий»; снаружи — с той стороны улицы — грохот кузни, скачущий ритм молотов, тяжкие, прерывистые вздохи кузнечного меха, запах паленого рога, стук вальков на берегу, где прачки полощут белье, глухие удары топора, доносящиеся из мясной лавки в соседнем доме, цоканье лошадиных копыт по мостовой, скрип колодца, лязг разводимого моста на канале, тяжелые баржи, груженные штабелями дров, медленно тянущиеся на буксире мимо сада; мощеный дворик с небольшой клумбой, где среди поросли герани и петуний тянулись вверх два сиреневых куста; вдоль террасы над каналом кадки с лавровыми и гранатовыми деревьями в цвету; а в базарные дни — шум с площади, крестьяне в глянцевитых синих блузах, визг свиней… По воскресеньям в церкви, как всегда, фальшивил певчий, и старик кюре дремал во время мессы; затем прогулка всей семьей по Вокзальному проспекту, где время проходило в обмене церемонными приветствиями с такими же страдальцами, тоже считавшими своим долгом гулять семьями, — пока наконец дорога не выводила в озаренные солнцем поля, над которыми вились незримые жаворонки, или на берег сонного, подернутого рябью канала, по обоим берегам которого тянулись ряды тополей…
А потом парадные провинциальные обеды, где без конца ели и обсуждали еду с упоением и знанием дела; знатоками же были все, ибо чревоугодие для провинциала — важнейшее занятие, подлинное искусство. Говорили и о делах, рассказывали пикантные анекдоты; иногда заводили разговор о болезнях, не скупясь на подробности. Мальчуган сидел в своём уголке, тихонько, точно мышка, нехотя грыз что-нибудь, когда другие ели, и слушал, слушал. Ничто не ускользало От его внимания, а что ему случалось недослышать, он дополнял воображением. У него был удивительный дар, присущий отпрыскам старых семей, старых родов, на которых оставили свой след целые века, — дар угадывать мысли, ему самому пока что не приходившие в голову и едва ли даже понятные. И еще была кухня, где творились сочные и смачные чудеса; была старая нянюшка, которая рассказывала потешные и страшные сказки. А по вечерам — бесшумный полет летучих мышей, ужас перед копошащимися где-то в недрах старого дома чудовищами: жирными крысами, гигантскими мохнатыми пауками; вечером — молитва на коленях у кроватки, когда сам не понимаешь, что бормочешь; дребезжание колокольчика в соседнем монастырском приюте, зовущего монахинь ко сну; и постель, островок грез…
Лучшим временем в году были весна и осень, когда семья жила в своей усадьбе, недалеко от города. Там можно было мечтать вволю: никто посторонний туда не заглядывал. Как и большинство буржуазных детей, брата и сестру держали подальше от простонародья: прислуга и фермеры внушали им своего рода страх и брезгливость. От матери они заимствовали аристократическое — или, вернее, чисто буржуазное — презрение к людям физического труда. Оливье проводил целые дни, примостившись среди ветвей ясеня, зачитываясь чудесными мифами, сказками Музеуса или г-жи д’Онуа, или «Тысячи и одной ночи», или же путешествиями, потому что его томила непонятная тоска по далеким краям — те мечты об океане, которые нередко обуревают юных обитателей французских захолустных городков. Густая зелень заслоняла от него дом, и он мог воображать себя где-то очень далеко. И в то же время ему было приятно сознавать, что он совсем близко: он не любил один удаляться от дома, — он чувствовал себя каким-то затерянным среди природы. Деревья колыхались вокруг. Сквозь чащу листвы он видел вдали желтеющие виноградники, видел луга, где паслись пестрые коровы, наполняя тишину засыпающих полей протяжным и жалобным мычанием. Петухи пронзительными голосами перекликались от фермы к ферме. Слышался неравномерный стук цепов на току. И среди невозмутимого покоя неодушевленной природы полным ходом шла лихорадочная жизнь великого множества живых существ. Беспокойным взглядом следил Оливье за вереницами озабоченных муравьев, за пчелами, отягощенными добычей и гудящими, точно орган, за спесивыми и глупыми осами, которые сами не знают, чего хотят, — за этим мирком хлопотливых насекомых, жадно стремящихся куда-то. А куда? Им это неизвестно. Все равно! Куда-нибудь… Оливье пробирала дрожь среди этого слепого и враждебного мира. Он вздрагивал, как зайчонок, от шума упавшей шишки или треска сухого сучка. И сразу же успокаивался, заслышав, как звякают на другом конце сада кольца качелей, на которых до головокружения качалась Антуанетта.
Она тоже мечтала, но на свой лад. Целыми днями рыскала она по саду, заглядывала во все уголки, смеялась, лакомилась, клевала виноград с кустов, как дрозд, потихоньку срывала с ветки персик, взбиралась на сливовое дерево или, проходя мимо, украдкой встряхивала его, чтобы на землю градом посыпалась золотая мирабель, тающая во рту, точно душистый мед. А то еще, несмотря на запрет, рвала цветы: сломает розу, которую облюбовала с утра, и убежит в беседку в конце сада. Там она жадно зарывалась носом в чудесно пахнущий цветок, целовала, кусала, обсасывала лепестки, потом прятала похищенное сокровище за корсаж платья между двумя маленькими грудями; с любопытством смотрела она, как они приподнимают распахнувшуюся кофточку. Другим упоительным и запретным наслаждением было снять башмаки и чулки и бродить босиком по мелкому прохладному песку аллеи, по росистой траве лужаек, по камням, ледяным в тени или раскаленным на солнце, и по дну ручейка, текущего вдоль опушки леса, — ласкать пятками, пальцами, коленями воду, землю, свет. Лежа в тени елей, она разглядывала свои пальцы, прозрачные на солнце, и бессознательно касалась губами атласистой кожи своих тонких и округлых рук. Она мастерила себе венки, ожерелья, платья из листьев плюща и дуба; вплетала в них лиловатые цветы чертополоха, красные ягоды барбариса, еловые веточки с зелеными шишками. И, точно принцесса какого-то варварского племени, плясала вокруг фонтана, вытянув руки; она кружилась, кружилась до тех пор, пока у нее не начинала кружиться голова; тогда она с размаху опускалась на лужайку, прятала лицо в траву и звонко смеялась несколько минут подряд, не в силах остановиться, сама не зная, чему смеется.