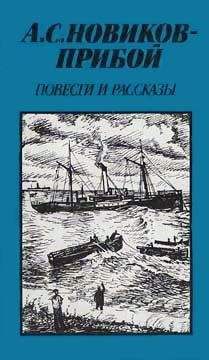Борис Шергин - Повести и рассказы
Недоумение наше малое и худое. Петр был человек страстный и пристрастный. Пристрастие его к голландскому «штилю» покрывает страстная и плодотворная его деятельность. Деятельная натура Петра Первого была сродни натуре архангельских поморов. Вот почему так любил Петра старовер Маркел Ушаков и таким рьяным сторонником петровских реформ был не любивший иноземцев холмогорский архиерей Афанасий.
Ум архангельского помора никогда не был косным и неподвижным. Автор «Малого Виноградца» характеризует «судостроительное художество» Ушакова так:
«Ушаково мастерство Маркелово было рассудительно и с любопытством, а не только по старым извычаям. Ушаковские суда заморские[4] обдуманы по чертежу…
…Ушаков был ученик нехудых учителей и не хотел уважить иноземным кораблям. Однако их рассматривал испытно, чая пользы своему любезному художеству».
Петр жаловался: «Я один тащу воз в гору, а миллионы под гору».
Не Маркелы Ушаковы и не Федоры Вешняковы тащили воз под гору. Дело Петрово исказили господа, залакированные под Европу, не помнящие родства, но задававшие тон.
Во второй половине XVIII века заявлять о том, что у русских существует своя морская культура, уже считалось конфузным.
Федор Вешняков приводит такой факт: «У допросу от коммерц-конторы: куда которые суда ходили, я и похвалился своеручным чертежом. Да и ушаковский объявил, Новоземельской. Господин Присутственный смолчал, а конторские опосле говорят: „Для приезду господина члена, ты бы постыдился карбасное-то художество казать. Соблюдал бы в сундуке“».
Упрятанная в сундуке древняя и оригинальная картография русских поморов была забыта.
Самый стиль, самая внешность древних «морских чертежей» оскорбляли вкус помпадуров XVIII века. Все, что было сделано в русском народном стиле, определялось выражением: «в подлом вкусе».
Вот почему первым картографом побережий Северного Ледовитого океана стали считать голландца Ван-Клейна. Между тем Ван-Клейн издал свой атлас только около 1600 года и пользовался для своей работы поморскими чертежами. Там, где у Ван-Клейна не хватало русских данных, чертеж его фантастичен.
В конце XVIII века в Петербурге предпринято было печатание Карты Русского Севера. Петербургские картографы рабски скопировали неверную голландскую карту. Тупоумие дошло до того, что даже искажения русских названий целиком перенесены были на «русскую» карту. Вместо «Канин Нос» на «русской» карте XVIII века напечатано «Кандинес», вместо «Святой Нос» – «Свети Нес» и т.п.
Пренебрежение к многовековому опыту поморов было так велико, что «русский генерал» Ф. Литке (XIX век) предпочел блуждать у Новой Земли в поисках Маточкина пролива, нежели «оконфузить себя услугами мужиков», то есть поморов, досконально знавших Новую Землю.
В конце концов в сознании русского общества исчезло всякое представление о том, что на Севере существовала большая морская культура.
Ведь мало ли в матушке-России всяких промыслов? В Кимрах шьют сапоги, в Вязьме пекут пряники, иные лепят горшки, плетут лапти, ткут рогожи. А поморы ловят рыбу. Что тут удивительного или особенного?
Древние документы, письменные свидетельства о северном мореходстве исчезали, терялись, утрачивались, оставались в безвестности, потому что люди науки не спрашивали о них, не искали, не собирали их.
Старинные виды морской литературы уничтожались забвением и временем. Но сохранилась у помора как бы врожденная потребность или привычка записывать события, хотя бы личной жизни, которые казались достопамятными. Отсюда характерное для Севера явление: каждый «архангельский мужик» непременно носит с собой записную книжку.
Во второй половине прошлого столетия в Архангельске жил некто Шмидт. Дворовые постройки своего дома он превратил в своеобразный музей. Здесь сохранялись своеобразные «памяти», оставленные погибшими где-нибудь «на голодном острове» или в «в относе морском» промышленниками.
Перед лицом неизбежной смерти промышленник вырезал ножом на бортовине судна или на дверях, на столешнице промысловой избы сведения о себе, о погибших товарищах. Здесь и деловитое завещание о долгах, «кому что дать и с кого что взять», здесь и отцовское благословение, и «последнее прости» жене.
Даты памятных досок доходили до середины XIX столетия.
В 1862 году мещанин посада Неноксы Афанасий Тячкин описывал историю гибели своего карбаса в обстановке, довольно неподходящей для литературной работы… Лихая непогода уже несколько дней носит по Белому морю опрокинутый вверх дном карбас. Большая часть людей утонула. Мещанин Тячкин, уцепясь ногами за киль, то погружаясь в ледяную воду, то всплывая, выцарапывает шилом на днище карбаса обстоятельное донесение о причинах гибели груза и людей. Конечно, при более человеческих обстоятельствах поморы пользовались пером и бумагой.
Всем, кто бывал на Западном Мурмане, напомню высеченную на большом камне малого островка изящную узорную надпись:
«Горевал Гришка Дудин. 1696 год».
Лодья Дудина отстаивалась здесь от шторма, и Дудин украсил пустынную морскую скалу изящной резьбой.
В Эрмитаже хранится кубок старинной холмогорской работы, вырезанный из мамонтовой кости. Резьба производит впечатление тончайшего кружева. По венцу кубка идет надпись: «На посмотрение будущим родам».
Эта любовь к достопамятности, это стремление увековечить явления живой жизни в большой мере свойственны были людям Севера. Не потому ли Северный край так долго являлся единственным хранителем русского национального эпоса?
Здесь приходится погоревать и позавидовать вот о чем: на Север с половины прошлого столетия стали приезжать специалисты по собиранию былин, специалисты по собиранию сказок и песен, специалисты по народному прикладному искусству.
В двадцатых годах Север объезжали командированные Институтом материальной культуры специалисты по собиранию и описанию оловянной посуды: кроме оловянных ложек и плошек, они не глядели ни на что!
Но, увы, никогда-никогда на Север не приезжали люди, которые настойчиво, целеустремленно спрашивали бы, искали бы, собирали бы специально морскую письменность.
Никто никогда не внушал поморам, что все «морские уставцы», «урядники», «лоции» важны для науки и имеют историческое значение. Никто специально не записывал и устных преданий, устных рассказов о славных мореходцах, об именитых судостроителях.
А ведь жизнь не стоит на месте. Забывается не только все ветхое и бесполезное, но и то, что интересно для истории, для живой науки.
Я говорил о старинных видах северной морской литературы, об уставах, урядниках, указцах, лоциях, сказаниях и т. п.
Может быть, позднейшим видом морской народной литературы Севера можно считать записные книжки поморов. Даже в начале века XX любой кормщик-шкипер, мурманский промышленник, корабельный мастер, пароходский служащий непременно имел при себе записную книгу, достаточно объемистую. Сюда заносились сведения, например, о вскрытии Северной Двины. Тут тщетные арифметические выкладки с целью сообразить, почему при расчете с хозяином он не только ничего не получил, а еще остался должен «три рубли».
В записных книжках, например, восьмидесятых годов общедоступность и дешевизна постройки деревянного парусного судна сравнивается с неприступною дороговизною постройки парохода.
Нередки в этих книжках описания штормов или «любознательных случаев», «морских встреч». Нередки записи преданий, связанных с тем или другим местом попутного берега.
У какого-нибудь старого мореходца таких записных книжек накоплялось немало. После его смерти они выносились на чердак или поступали в распоряжение ребят, которые заполняли своими каракулями свободные места.
Здесь было упомянуто, что историческая наука морской историей Севера специально не занималась, а наука географическая упоминала о северном мореходстве и судостроении вскользь, наряду с бесчисленными «местными» кустарными промыслами деревенской России. Но все же в силу какой-то интуиции в среде «морского сословия» «свеча не угасла». Сознание, что «морское преданье и морское писанье» для чего-то важны и кому-то нужны, теплилось в среде беломорских мещан и крестьян. В начале XX столетия в Архангельске еще немало было «домов», или семейств, хранивших память о славных мореходцах и судостроителях. Были в среде моряков, пароходских служащих, в среде судостроителей отдельные лица, любители морской старины, собиратели морских преданий.
Я, пишущий эти строки, родился в Архангельске, в семье «корабельного мастера первой статьи», и половину жизни провел в среде людей, прилежащих мореходству и судостроению.
Отец мой принадлежал к числу тех поморов, которые никогда не расставались с записной книжкой. Виденное и пережитое, слышанное и читанное отец умел пересказать так, что оно навсегда осталось в памяти у нас, его детей.