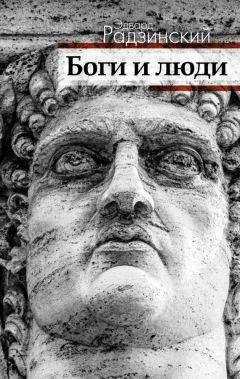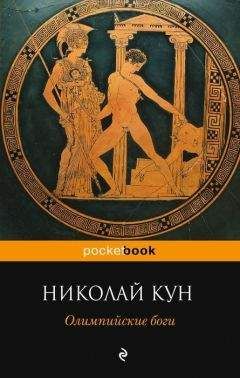Ричард Олдингтон - Все люди — враги
Даже в ветреные дни, столь частые в Англии, можно было, если не свирепствовала настоящая буря, спокойно сидеть возле густых рододендронов под прикрытием деревьев и слушать, как поскрипывают верхние ветви, которые то и дело клонились от сильных порывов ветра. Когда грачи вили гнезда на зеленеющих вязах, забавно было смотреть, как они боролись с ветром, сердито каркая на бессердечного врага, производившего у них постоянный беспорядок и моментально уничтожавшего весь драгоценный строительный материал, прежде чем они успевали крикнуть: краак. В тихие дни, особенно когда уже замолкали певчие птицы, терраса словно погружалась в необъятную тишину среди неподвижных деревьев. Если вы сидели здесь довольно долго не двигаясь, вам казалось, что время не существует, вы словно становились частью непреходящего бытия; пространство исчезало, и перед глазами оставался только воздушный красочный узор. Казалось, достаточно поднять палец, чтобы дотронуться до верхушки деревьев, протянуть руку, чтобы погладить нежную траву на отдаленном холме.
Но лучше было не двигаться; малейшее движение разрушало чары присутствия чего-то таинственного.
Бабочка проносилась над лужайкой: стремительный шелест парения, взлет, трепет крыльев пестро-золотистого махаона или зигзагообразное порхание бабочки-белянки. Внезапно из рощи доносился резкий, тревожный крик голубой сойки, или слышался однообразный звон овечьих колокольчиков, или цоканье лошадиных копыт по твердой белой дороге. А потом вы снова погружались в этот заколдованный мир, где не было ни времени, ни пространства, — только аромат свежескошенной травы и зреющих плодов.
Как каждый человек живет двумя смешанными жизнями: одной — явной, общественной, другой — скрытой, индивидуальной, так существуют и два рода воспитания: одно — по установленным правилам, другое — непосредственное, подсознательное, и оно-то почти всегда имеет гораздо больше значения. Только много позднее понял Энтони, как воспитывались его чувства и разум Вайн-Хаузом и окружающей его природой. Тысячи раз он входил и выходил из дому; сотни раз по тем или иным неотложным таинственным детским делам пересекал долину и горы, вовсе не замечая их. Однако каждый раз что-нибудь запечатлевалось в его памяти.
Он понял это двадцать пять лет спустя, когда, очутившись однажды в этих краях, нарочно спустился в долину, чтобы посмотреть на то, что когда-то было его родным домом. Его привели сюда не сентиментальные воспоминания детства, не чувство патриотизма, заставляющее человека смотреть на какой-нибудь пейзаж как на личную собственность, как на продолжение своего «я», которое должно остаться таким же неприкосновенным, как и собственное драгоценное «я».
Ему просто хотелось понять, почему все это так много значило; для него, почему он с такой необычайной ясностью вспоминал об этом среди суеты и гама парижского кабачка, среди мрачного озверения в окопах, среди вдохновляющей тишины гор. Новая железнодорожная линия протянула через долину свои убегающие в бесконечность рельсы, белая лента прежней дороги превратилась в темную змею гудрона, проглотив когда-то цветущие изгороди. Бензиновая колонка снесла великолепный конский каштан и гордо выставила ряд оранжевых и красных автоматов, готовых изрыгать бензин в любую минуту. Деревня выступила из-за угла, разбросав ряды одноэтажных домиков по овечьему выгону, где уже не было овец. Самый дом был изуродован модными окнами с выступами, из резко отличавшегося цветом кирпича; больше половины вязов было срублено, чтобы очистить место для теннисной площадки, и два или три полусгнивших каштана печально поникли над бетонным гаражом. Энтони, возмущенный и подавленный, поспешил уйти. Но пока он шел к новой станции, прочно обосновавшейся со своими кирпичными зданиями на том месте, где раньше была ивовая роща, нежные пушистые побеги которой заставляли его мечтать о золотистом пушке на коже молоденькой девушки, он ясно понял, почему старый дом так много для него значил. По редкой случайности, из десяти тысяч жизней, едва ли выпадающей на одну, Энтони провел почти двадцать лет среди столь полной гармонии, что он дышал ею так же бессознательно и естественно, как дышит чистым воздухом. Ее разрушение заставило еще сильней вспыхнуть его воспоминания. Сам дом был воплощением гармонии, созданной людьми с ясными простыми чувствами; он стал символом их самих. Он сочетался и с окружающей природой, так что одно дополняло другое. Эта гармония существовала, он жил ею, пусть даже только в наивных детских и юношеских грезах.
Он был обязан ей своими самыми чудесными, самыми памятными переживаниями. Теперь она исчезла, как радуга в весенних тучах, и никогда не вернется. Как воссоздать ее вновь из действующих ныне сил и противоречий?
Новая станция — убогое сооружение из кирпича и крашеной сосны — была похожа на неудавшийся швейцарский домик, жалкий и обветшалый. Там было пусто, если не считать носильщика, который в жилете, без пиджака, возился с какими-то фонарями.
Энтони узнал в нем одного из деревенских мальчишек, ставшего теперь взрослым, но тот, очевидно, не обратил на него внимания, за что Энтони был ему благодарен, так как сравнивать свои и его воспоминания вряд ли было бы интересно. Справившись у парня о времени прихода поезда, Энтони спросил:
— Не знаете ли вы, кто живет теперь в Вайн-Хаузе?
— Какие-то люди из Лондона, — ответил носильщик. — Они только приезжают сюда, да и то не часто.
Прикатят на своих машинах, пробудут с субботы на воскресенье. В деревне говорят, что у них там чего только не вытворяют. Я-то сам никогда этого не видел.
Они только играют в теннис или заводят граммофон да включают радио. Ну мне что, мне до них дела нет.
— Они похоже перестроили всю усадьбу?
— Да, кучу денег ухлопали, ведь это старый дом, нужно было его подновить, поправить. Первое-то время они здесь безвыездно жили, а теперь редко показываются.
— Может быть, они скоро совсем отсюда уберутся?
— А мне что, провались они хоть все До одного, скатертью дорога.
Энтони пришел в уныние от этого бесплодного разговора. Он даже хорошенько не понимал, зачем его поддерживает, разве только, чтобы окончательно убедиться, что мечта — действительность его детства — больше не существует. Над головой назойливо жужжал аэроплан. Да, носильщик был на войне, в пехоте, был ранен у Луса. Нет, он недоволен своим местом.
Работы много, а денег мало. Он так полагает, что скоро можно ожидать больших перемен. Рабочие не станут дольше терпеть. Подумать только, за казенный домишко приходится платить шесть с половиной шиллингов в неделю, электричества нет, а прачечные — просто позор. Торговля приходит в упадок, заработков никаких, а безработица растет. Нет, тут уж ничего сделать нельзя. Вот он всегда голосовал за лейбористов, а что толку! Стоит им только попасть в парламент, они оказываются не лучше других. И лично он полагает, что скоро произойдут большие перемены…
Увидит кой-кто оборотную сторону медали.
III
В раннем детстве Энтони большое место занимала горничная Анни. Поварихи, горничные, судомойки часто менялись, исчезали, на месте одних появлялись другие, но Анни оставалась всегда. Сначала ее звали Нанни, потому что она была кормилицей Энтони, купала его, одевала и водила гулять. Она знала две песни, которые, по ее уверениям, имели силу заговора.
Одна называлась «Марш муллшанских гвардейцев», считалась бодрой и воодушевляющей, ее полагалось петь в минуты капризов во время купания или одевания или когда наступала трагическая необходимость ложиться спать. Другая — унылый гимн — начиналась словами «Пройдут еще годы». Эту Анни считала самой чудодейственной колыбельной. Она и впрямь нагоняла такую непроходимую тоску, что всех неудержимо клонило ко сну. Под нежное музыкальное причитание Анни Энтони казалось, будто он много раз умирал. Когда же он стал ходить в школу и теплые ванны с обязательным присутствием Нанни в качестве Евриклеи сменились утренним холодным душем без всякой посторонней помощи и вечерним мытьем два раза в неделю все еще под ее наблюдением, Нанни несколько дней плакала и успокоилась только тогда, когда ее «произвели» в старшую горничную, с прибавкой жалованья, и переименовали в Анни. Она еще долго продолжала присутствовать при его мытье, даже после того как в этом исчезла необходимость, придумывая всякие глупые предлоги, вроде того, что он плохо отмывает уши и шею, и не было случая, чтобы она забыла заметить таким тоном, точно ее осенила какая-нибудь необыкновенно оригинальная мысль:
— Ах, мастер Тони! Как вы выросли! Вы почти такой же рослый, как наш Билл, а ведь он дюжий парень!
Приступы сентиментальной слезливости у Анни проявлялись время от времени в коротких, но бурных вспышках религиозного рвения, вызываемого, возможно, грешными половыми инстинктами, в чем она, конечно, никогда бы не призналась. У Анни был поклонник, сын мясника и сам мясник, из ее родной деревни. Но она держала его на почтительном расстоянии, которое сделало бы честь самой целомудренной и гордой даме Прованса, разрешала ему писать только раз в две недели, не обещая ответа, и встречаться с ней только два раза в год в Вайн-Хаузе и в тех редких случаях, когда она ездила домой в деревню. Несмотря на это, Анни твердо считала себя обязанной выйти когда-нибудь замуж за своего поклонника и энергично отклоняла ухаживания молодых торговцев и молочников, приходивших с черного хода; за это они, уходя, мстили ей, выкрикивая «мясник», отчего Анни вспыхивала и ругала их за дерзость.