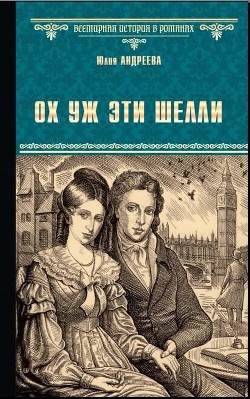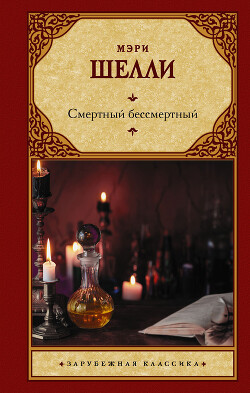Фолкнер - Шелли Мэри
Серые лица и исхудавшие тела крестьян свидетельствовали о страшной эпидемии, жертвой которой стал и Фолкнер, а при виде убогости жилищ и повсеместной грязи у нее защемило сердце. Наконец они подошли к деревне, о которой, по словам проводника, писал Василий. Расспросив деревенских жителей, они пошли по дороге — похоже, то была главная деревенская улица; в конце стояло ветхое убогое строение. Во дворе стоял отряд вооруженных греков, сбившихся в кольцо в зловещей тишине. Фолкнер находился здесь; Элизабет спешилась, и через несколько минут показался Василий. В выражении его лица сквозили настороженность и печаль; он провел Элизабет в дом. Внутри царило страшное запустение: не было ни мебели, ни стекол в окнах, ни следов человеческого труда за исключением голых стен. Она вошла в комнату, где лежал ее отец; его кроватью служили несколько матрасов, наваленных на лавку, а больше в комнате ничего не было, кроме жаровни для подогрева пищи. Элизабет приблизилась и взглянула на отца с благоговением и ужасом; он так изменился, что она с трудом его узнала. Глаза ввалились, втянулись щеки, лоб приобрел мертвенно-бледный оттенок, и на лице лежала призрачная тень, предвестник смерти. У него едва хватило сил поднять руку, голос его звучал глухо, но, увидев ее, он улыбнулся, и эта улыбка — последнее пристанище души, что нередко остается на лице и после смерти, — была всем, что сохранилось от него прежнего. Она вонзилась ей в самое сердце, глаза Элизабет затуманились слезами, а Василий бросил на нее горестный взгляд, словно хотел сказать: «Я утратил всякую надежду».
— Спасибо, что приехала, но тебе нельзя здесь находиться, — хрипло пробормотал больной.
В ответ Элизабет поцеловала его руку и лоб, и, как ни старалась крепиться, слезы покатились у нее из глаз и упали на его ввалившиеся щеки. Он снова улыбнулся.
— Все не так уж плохо, — промолвил он, — не плачь, я хочу умереть! Я не страдаю, но очень устал от жизни.
Вошел хирург, осмотрел рану: пуля из мушкета попала Фолкнеру в бок. Он обработал рану и дал пациенту лекарство, от которого тому сразу полегчало, а затем присоединился к встревоженной девушке, что вышла в другую комнату.
— Состояние очень опасное, — произнес хирург в ответ на ее тревожный взгляд. — Пока ничего нельзя сказать точно. Но прежде всего необходимо увезти его из этого места, тут полно заразы; совокупный вред от лихорадки и ранения его убьет. Свежий воздух поможет справиться хотя бы с болезнью.
Со свойственной ей энергичностью Элизабет велела приготовить носилки, нанять лошадей и организовать все, чтобы выехать на рассвете. Спать легли рано, чтобы успеть отдохнуть перед утренней дорогой; лишь Элизабет не ложилась и провела долгую ночь в бдении у кровати Фолкнера, отмечая в нем каждую перемену. Она слышала стоны, которые он издавал во сне, и слетавшие с его губ сдавленные жалобы и терзалась, глядя на его беспокойство и горячечные метания, что в любой момент могли привести к роковому исходу. Тусклый трепещущий свет лампы лишь усиливал ощущение убогости и запустения, царившее в ужасной комнате, где он лежал; Элизабет на минуту выглянула в окно посмотреть на расположение звезд и поразилась великолепию природы. Перед ней раскинулся прекрасный греческий пейзаж, южная ночь во всей своей царственной красе: звезды, яркими лампами повисшие в прозрачном эфире; над оливковыми рощами кружились и мелькали светлячки, садились на миртовые изгороди и иногда вспыхивали, на миг заполняя окружающее пространство волшебным сиянием. Каждое дерево, камень и неровная возвышенность лежали в безмятежной и прекрасной дреме. Она повернулась к ложу, где покоилась вся ее надежда, ее обожаемый отец; его изрезанный морщинами лоб, безвольно повисшая рука, полуприкрытые глаза и прерывистое дыхание свидетельствовали о чрезвычайной слабости и муках.
Пейзаж за окном невольно вызвал в памяти слова английского поэта, который трогательно описывал запустение греческих земель, сравнивая смертные муки с затянувшимися бедами угнетенной страны. Отдельные слова и строки всплывали в памяти, и, чувствуя, как защемило сердце и отозвалось, она воскликнула: «Нет! Нет, только не так! Он не умер в первый день нашей встречи — не умрет сейчас и не умрет никогда!» С этими словами она расплакалась и рыдала долго и горько; после успокоилась, и остаток ее бдения прошел в молчании. К утру даже больному полегчало.
В ранний час все было готово. Фолкнера поместили на носилки, и небольшой отряд, охотно покинув убогую деревушку, медленно направился к морскому берегу. На каждом шагу их подстерегали беда и опасность. К Элизабет вернулось ее обычное самообладание; хладнокровная, бдительная, за эти часы она словно набралась опыта, который иные не приобретают и за годы. Никто не вспоминал, что во главе процессии шестнадцатилетняя девушка. Она замирала над носилками раненого, подсказывала, как лучше его нести, чтобы он не страдал, — а это было непросто, так как земля была неровной, приходилось взбираться в гору и пересекать овраги. Время от времени слышался мушкетный выстрел; иногда над холмами вдоль дороги мелькала греческая шапка, которую часто по ошибке принимали за тюрбан и поднимали тревогу, но Элизабет не боялась. Ее большие глаза округлялись и темнели, когда она смотрела туда, где таилась предполагаемая опасность; она подходила ближе к носилкам, как одинокая мать, что старается держаться рядом с колыбелью ребенка, услышав в ночной тишине крик голодного зверя, грозящий нарушить их уединение; но открывала рот лишь затем, чтобы указывать остальным на ошибки, которые первой подмечала, или велеть мужчинам идти тихо, но не бояться и не позволять ложным тревогам замедлить продвижение.
Наконец они дошли до берега, и Фолкнера подняли на палубу корабля; там он смог отдохнуть от мучений, которые причинил ему переход, несмотря на то что несли его очень осторожно. Элизабет поверила, что он спасен, но стоило взглянуть на его бледное лицо и исхудавшую фигуру, как ее страхи пробудились снова. Он выглядел, как выглядят люди на пороге смерти, и все вокруг не сомневались, что он умрет.
Глава XI
По возвращении в Закинф Фолкнера уложили в прохладной удобной комнате; опытный хирург осмотрел его раны, а Элизабет, забыв о сне, дежурила у его постели. Так постепенно смертная тень стерлась с его лица, утратившего бледный, неживой оттенок. Но до выздоровления было еще далеко. Ранение проявлялось опасными симптомами, а лихорадка никак не желала проходить. Он чудом спасся от могилы, ослабел и отощал; болезнь даже пыталась лишить его рассудка, но тот сопротивлялся куда упорнее измученного тела. Фолкнер сам отправился на смерть и ее не страшился, но уже не проявлял прежней нетерпимости к жизни; теперь он мужественно и стойко пытался противостоять болезни тела и застарелому недугу души.
Забота о нем стала для Элизабет серьезным испытанием. Мрачное лицо хирурга много дней не сулило надежды. Но она не отчаивалась, и в конце концов Фолкнер поправился именно благодаря ее бдительному уходу. Она никогда не покидала его спальню, разве что на несколько часов, чтобы поспать, и попросила переставить свою кровать в соседнюю комнату. Стоило ему пошевелиться, она тут же просыпалась и бежала к нему, пытаясь угадать причину беспокойства и облегчить его состояние. За ним смотрели и другие сиделки, и Василий — его самый преданный друг; она руководила ими с рассудительностью и тактом, на которые способна только женщина. Ее мягкая маленькая ручка разглаживала подушку, охлаждала и освежала лоб. Она, казалось, совсем не ощущала воздействия бессонных ночей и дней, проведенных в бдительном ожидании; все ее чувства сплотились в надежде и решимости его спасти.
Она бережно выхаживала его несколько месяцев. Наконец Фолкнеру стало немного лучше; лихорадка спала, рана начала заживать. Однажды его переместили в открытый альков, чтобы он мог подышать бархатистым вечерним воздухом, и в первый же вечер усилия Элизабет вознаградились сполна. Она присела рядом с ним на низкую подушку; он гладил ее по голове исхудавшими пальцами и перебирал ее кудри; этот ласковый жест показывал, что хотя он молчал и выглядел рассеянным, но думал о ней. Наконец он произнес: