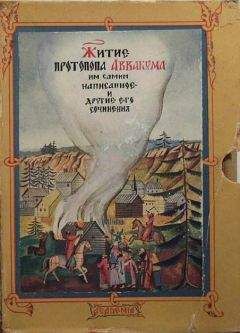Даниил Мордовцев - Державный плотник
Так рассуждали стрельцы своим простым умом, не догадываясь, конечно, что эта неразумная борьба против родных братьев, оставшихся верными старой обрядности, потянется на столетия, что она станет источником великих преступлений и бесчеловечных жестокостей со стороны тех, которых стрельцы называли «дрянными людишками», что эти «дрянные людишки» прольют потоки русской крови, и прольют бесплодно, что, наконец, это «Соловецкое сидение» растянется на сотни лет и что в этом «сидении» очутятся не одни соловецкие старцы, а целая половина России: эта половина России – так называемые «раскольники», «старообрядцы», которые в конце концов все-таки останутся победителями, потому что Россия, слава Богу, начинает уже понимать, что борьба ее с расколом обошлась ей дороже всех войн, начиная с Отечественной войны 12-го года и с Крымской и кончая последней турецкою, что в войне с расколом Россия потеряла не пять и не десять миллионов, а «тьмы тем», и все-таки, говоря иносказательно, не взяла ни одной раскольничьей Плевны, и не возьмет: «Соловецкое сидение» будет продолжаться вечно, если Россия не снимет осаду с раскола и не прекратит своей «Отечественной войны»...
* * *В келье на жестком деревянном ложе, на которое брошена кошемка, мечется в жару старый чернец. Густые, с сильной сединою волосы, растрепанные и местами сбившиеся, словно неваляная и немытая шерсть, падают на лицо и на раскрытую грудь, на которой видно большое серебряное распятие. Разметанные члены, широкие костлявые плечи и грудь изобличают, что когда-то это была мощная фигура. Горбоносое с высоким лбом лицо, глаза, теперь болезненно притухшие, очертание губ, подбородка, все невольно подтверждает давно ходящую в монастыре молву, что чернец Зосима, который теперь мечется на болезненном одре, не простой чернец, не худородный, а роду княжеского, только каких князей, никто не знал: он давно пришел в монастырь, внес богатый вклад в монастырскую казну золотом, серебром и дорогими камнями и постригся под именем Зосимы, тезкою стал преподобному Зосиме-Савватию.
Несколько дней тому назад старец Зосим и Спиря-юродивый, ревнуя об освобождении святой обители от нового Мамая, так величали воеводу Мещеринова эти два старца, забрали себе в голову смелую мысль: пойти по стопам приснопамятных иноков Пересвета и Осляби и так или иначе добыть нового Мамая. Для этого они ночью вышли из монастыря и, никем не замеченные, добрались до стрелецкого стана. Стрельцы спали. Спали даже часовые. Зосима и Спиря подползли к палатке воеводы и только было хотели войти под полог ее, как проснулась спавшая у самого входа в палатку воеводская собака, залаяла на ночных посетителей и разбудила воеводу. Озадаченные неожиданностью, услыхав тревогу во всем лагере, старцы должны были поспешить назад в монастырь... Из воеводской палатки раздался выстрел, – и Зосима, вскрикнув и схватившись за бок, был подхвачен сильными руками юродивого.
Зосима находился между жизнью и смертью. «Безребрая», как выражался Исачко-сотник, уже махала косою над головой раненого, только Спиря «ей, шельме, тертого хрену подносил», и она бегала от Божьего человека, как черт от ладану.
Окна в келье открыты, чтобы легче было дышать больному. Откуда-то, должно быть с монастырской стены, доносится полупьяное напеванье:
Ах ты, шапка, ты, шапка моя,
Одного сукна с онучею...
Это Исачко, от скуки подвыпивший, сидел на затинной пищали, глядел на море и мурлыкал свою любимую песенку: ратным людям дозволялось выпивать вне правил монастырского устава об «утешении».
«Ти-ти-вик! Ти-и-вик!» – пропискнула ласточка. Спиря, сидевший около раненого в глубокой задумчивости, поднял свою косматую голову. Ласточка, влетевшая в окно, села на засохшие прутья освященной вербы, заткнутые за образа, и поглядывала своими изумленными глазками.
Раненый открыл глаза и блуждал ими по потолку. «Ти-и-вик! Ти-и-вик!»
– Это ее душенька, – как бы про себя пробормотал раненый.
– Чья? – спросил Спиря тихо.
– Ейная... Она за моей прилетела.
Спиря перекрестился. Снова тихо в келье. Косые лучи солнца сквозь открытое окошко падали на лежавшее на маленьком аналое, рядом с Евангелием, распятие. Там же лежал и знакомый нам череп.
Ласточка снялась с вербовых прутьев, покружилась по келье и с писком выпорхнула за окно. Раненый открыл глаза.
– Это к моей смерти, – сказал он и поглядел на юродивого осмысленными глазами.
– В животе и смерти Бог волен, – отвечал последний.
– Нет, мой конец пришел... Конец приближается... Будет, пожито... гораздо пожито...
Раненый перекрестился и снова взглянул на юродивого.
– Не хочешь ли испить? – спросил последний.
– Хотел бы...
Юродивый поднялся, чтобы подать кружку с питьем.
– Нет, не того, – отрицательно покачал головою больной.
– Чего же тебе?
– Крови бы пречистой...
Юродивый посмотрел на него с удивлением: не бредит ли-де? Нет, не бредит: глаза глядят разумно, жар прошел.
– Христовой бы кровушки перед смертью, – пояснил больной.
– Причаститься захотел?
– Да, душа алчет и жаждет... Исповедай меня, брате святый.
Юродивый задумался. Он вспомнил слова архимандрита, когда изгоняли из монастыря Геронтия с попами: «Будем друг у дружки исповедоваться перед лицем Господа, как крины сельнии исповедуются»...
– Добре, брате, кайся Господу, – сказал он и встал. Затем, встав перед аналоем на колени, он начал читать предысповедную молитву. Больной тихо повторял за ним: «Се ми одр предлежит, се ми смерть предстоит, суда Твоего боюся», – слышались молитвенные слова, которые иногда перебивал доносившийся со стены монотонный напев:
Ах ты шапка, ты, шапка моя...
– Великий грех у меня давно лежит на душе, тяжкий грех! Ох, какой тяжкий! – начал больной после молитвы. – Сорок лет, словно жернов на шее, волоку я этот грех и доволок до могилы. Ни днем, ни ночью, ни во пиру, ни в беседе, ни за четьем-нетьем церковным, ни за келейною молитвою не отваливался от моего сердца этот горюч алатырь-камень... Вот так и стоит предо мною, кровавая, и шепчет: «За что погубил меня? Куда девал мою голову? Ох, тяжко! Смертушка моя, как тяжко!»
Он помолчал, как бы собираясь с силами. Юродивый тоже молчал, хотя губы его шевелились. Ласточки задорно щебетали за окном, как будто силясь одна другую переговорить, словно бы у них шла речь о предметах такой важности, как сугубая аллилуйя.
– Был я княжова роду, воеводин сын – княжич и воеводич, – продолжал больной, тяжело вздохнув. – Рос я в холе и воле, не ведал сызмальства ни судержу, ни суперечины, был батюшковым любимым сынком, а у матушки мизинчиком. Таким и вырос, таким и до окаянства дошел. Из воеводича и княжова сына я сам стал воеводою и князем: лет сорок тому будет, как я воеводою назначен был. Послан я был в те поры на воеводство в Муром...
– В Муром! – изумленно перебил его юродивый,
– В Муром... И спознался я в те поры с некоею женою благородною. Муж ее числился в моем полку, да только все обретался в нетях. И как спознался я с тою женою, и нача мя искушати бес, нагнал на меня слепоту и окаянство лепоты ради женки той: «Убей, говорит, мужа и возьми себе жену». День и ночь в бдении и тонце сне не отходил от меня бес: «Изведи да изведи мужа того».
– Муж тот был из роду Хилковых? – спросил юродивый глухим голосом.
Больной испуганно приподнялся на своем ложе и так же испуганно глядел на юродивого.
– Ты почем знаешь, что он был Хилков? – спросил он в свою очередь.
– Знаю, – был короткий ответ. – Кайся дале...
Голова больного снова опустилась на изголовье, и он глубоко вздохнул.
– Вижу, что тебе Бог все открыл, – продолжал он более покойным голосом, – и мое покаяние дойдет до Бога твоими молитвами, человече святый.
– Не говори этого, – строго перебил юродивый, – я – сосуд сатанин, и грехам моим несть числа.
– И будь по-твоему... – Больной снова тяжело вздохнул и продолжал: – Обошел меня бес, распалилась плоть моя окаянная, и я положил в душе извести того человека.
– Спиридона Иванова, сына Хилкова, мужа Настенькина? – подсказал юродивый.
– Ты и ее знаешь? – вздрогнул больной.
– Знал... ну!
– Ну, пришел я к ней однова ночным временем, и утаились мы с нею в саду, и стал я ее к своему злому умыслу приводить, чтоб Спиридона извести... И вдруг словно архангел мечом поразил меня... Дальше я ничего не помню, опамятовался уже я утром, когда солнышко взошло, и увидел около себя ее...
– Настасью Хилкову?
– Настасью. Увидел ее на траве, мертвую. А голова у нее от туловища отрезана, и где девалась, не ведомо...
– Вот она! – неожиданно сказал юродивый и поднес к больному череп. – Смотри, узнаешь?
Больной глядел испуганно, ничего не понимая. Он посмотрел в глаза юродивого: в них теплилось что-то кроткое и тоскливое,
– Это она, Настенька, моя жена, а твоя бывшая полюбовница... Поцелуй ее теперь, как в те поры целовал, князь Захар, княж Остафьев, сын Мышецкой... – Это говорил юродивый, поднося к губам больного страшный костяк...