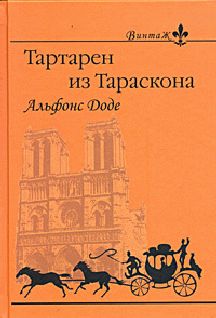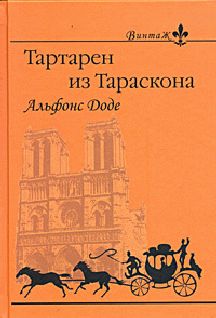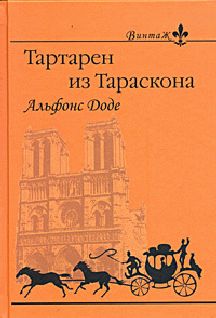Альфонс Доде - Тартарен из Тараскона
Но как ни был удивлен пришелец, а постояльцы отеля были еще больше удивлены, и едва он вошел в просторную прихожую, толпа любопытных повалила туда из всех зал: мужчины с биллиардными киями и развернутыми газетными листами, дамы с книгами или рукодельем; на верхней площадке лестницы тоже показались люди и, перегнувшись через перила, уставились на него.
Пришелец заговорил громоподобным голосом, этаким «южным басиной», звучащим, как цимбалы:
– Разэтакий такой! Ну и погодка!..
Внезапно смолкнув, он снял очки и фуражку.
У него захватило дух.
Слепящие огни, тепло, исходившее от газовых рожков и калориферов, после мрака и холода снаружи, затем эта пышная обстановка: высокие потолки, привратники в галунах и в адмиральских фуражках, на которых золотыми буквами было написано Regina montium, белые галстуки метрдотелей, целый батальон сбежавшихся по звонку швейцарок в национальных костюмах, – все это огорошило его, впрочем, только на одну секунду.
Заметив, что все на него смотрят, он приосанился, как артист перед битком набитым зрительным залом.
– Чем могу служить?.. – процедил сквозь зубы шикарный директор в полосатой визитке, с холеными бакенами, завитой на манер дамского портного.
Альпинист, нимало не смутившись, спросил себе номер, «маленький удобный номерок», спросил так непринужденно, будто перед ним стоял не величественный директор, а старый школьный товарищ.
Он даже чуть было не вспылил, когда к нему подошла горничная, уроженка Берна, с подсвечником в руке, в плотно обтягивавшем ее золотом корсаже, с пышными тюлевыми рукавами, и спросила, не угодно ли ему подняться на лифте. Он был бы не менее возмущен, если б ему предложили совершить преступление.
– Чтобы я… чтобы я… на лифте!.. – И от его крика, от его жеста пришли в движение все его доспехи.
Внезапно смягчившись, он сказал швейцарке:
– Нет, я по образу пешего хождения, моя кошечка…
И пошел вслед за ней, глядя в упор на ее широкую спину и всех по дороге расталкивая, меж тем как по отелю пробегала одна и та же скороговорка: «Это еще что такое?» – повторявшаяся на всех языках земного шара. Но тут раздался второй звонок к обеду, и о необыкновенном человеке тотчас же все позабыли.
Столовая в «Риги-Кульм» – зрелище воистину потрясающее.
На шестьсот персон накрыт был огромный, в виде подковы, стол, на котором длинными рядами, вперемежку с живыми растениями, стояли блюда, полные рису и черносливу, и в их светлом и темном отваре отражались неподвижные огоньки люстр и позолота лепного потолка.
Как за всеми швейцарскими табльдотами, рис и чернослив делили здесь обедавших на два враждебных лагеря, и по одному тому, какой взгляд бросали вы заранее на то или иное десертное блюдо, – взгляд, исполненный ненависти или вожделения, – можно было сразу определить, к какой партии вы принадлежите. Рисолюбы отличались худобой и бледностью, черносливцы – полнокровием.
В тот вечер черносливцев оказалось, во-первых, больше, а во-вторых, к ним примкнули наиболее важные особы, европейские знаменитости, как, например, выдающийся историк, член Французской академии Астье-Рею, старый австро-венгерский дипломат барон фон Штольц, лорд Чипндейл (?), член Джокей-клоба со своей племянницей (гм! гм!), знаменитый профессор Боннского университета Шванталер и перуанский генерал с восемью дочерьми.
Между тем рисолюбы могли им противопоставить лишь таких светил, как бельгийский сенатор с семейством, супруга профессора Шванталера и возвращавшийся из России итальянский тенор, щеголявший своими запонками величиною с чайное блюдечко. Неловкость и натянутость, которые чувствовались за столом, по всей вероятности вызывались именно тем, что здесь столкнулись два противоположных течения. Иначе как же объяснить, что все эти шестьсот персон, надутые, хмурые, подозрительные, хранили упорное молчание и смотрели друг на друга с величайшим презрением? Поверхностный наблюдатель приписал бы это нелепой англосаксонской чванливости, которая в мире путешественников всюду задает теперь тон.
Нет, нет! Существа, еще не потерявшие образа человеческого, не возненавидят друг друга с первого взгляда, не станут только из-за того, что они незнакомы, задирать нос, кривить рот и смотреть свысока друг на друга. Тут кроется нечто иное.
Я вам уже сказал: рис и чернослив. Вот причина мрачного молчания, повисшего над обеденным столом в «Риги-Кульм», а между тем, принимая во внимание многочисленность разноплеменных гостей, обед мог бы здесь пройти так же шумно и оживленно, как если б он был устроен у подножья Вавилонской башни.
Когда альпинист вошел, вид залитой светом люстр трапезы молчальников привел его в некоторое замешательство; он громко откашлялся, но на него никто не обратил внимания, – тогда он сел с краю стола, в самом конце залы. Без доспехов, это был теперь обыкновенный турист, но в самой внешности этого человека, плешивого, с брюшком, с остроконечной густой бородкой, с величественным носом и добрыми глазами, глядевшими из-под пушистых сердитых ресниц, было что-то особенно привлекательное.
Кто же он: рисолюб или черносливец? Это пока еще представляло загадку.
Только успев сесть, он беспокойно заерзал на стуле, потом испуганно вскочил.
– А, чтоб его!.. Сквозняк!.. – воскликнул он и устремился к свободному стулу в середине залы, прислоненному спинкой к столу.
Служанка, родом из кантона Ури, в белом переднике, увешанном серебряными цепочками, остановила его:
– Это место занято, сударь…
Но тут сидевшая рядом девушка, у которой видна была только шапка светлых волос над белоснежной шеей, сказала, не оборачиваясь, с сильным акцентом:
– Нет, оно свободно… Мой брат болен и сегодня не выйдет к столу.
– Болен? Болен? – участливо, почти встревоженно спросил альпинист, садясь за стол. – Надеюсь, не опасно, а?
Он произнес – "э". Эту частицу он вставлял во все свои фразы вместе со словами-паразитами, вроде: «Что, ну что, а ну, а да ну, ух ты, ишь ты, гляньте-ка, э-эх, все-таки», которые еще резче подчеркивали его южное произношение, а юной блондинке оно, по-видимому, не нравилось, потому что она, ничего ему не ответив, окинула его ледяным взглядом бездонно глубоких темно-синих глаз.
Сосед справа тоже не очень к себе располагал; это был итальянский тенор, ражий детина с низким лбом, маслеными глазками и воинственными усами, которые он начал сердито покручивать, как только его разъединили с хорошенькой соседкой. Но добрый наш альпинист любил поговорить за едой, – он считал, что это полезно для здоровья.
– Ишь ты! Какие красивые запонки!.. – вслух заговорил он сам с собой, посматривая на манжеты итальянца. – На яшме вырезаны ноты – прррэлэстно!..
Его голос, в котором слышался металл, рокотал в полной тишине и не будил ни малейшего отзвука.
– Вы, наверно, певец? Чтэ?
– Non capisco… [не понимаю… (итал.)] – пробурчал себе под нос итальянец.
Альпинист с сокрушенным сердцем начал есть молча, но куски застревали у него в горле. Наконец, как только сидевший против него австро-венгерский дипломат потянулся дрожащей от старости сухонькой ручкой, которую обтягивала митенка, к горчичнице, он предупредительно подвинул ее.
– Пожалуйста, барон…
Он слышал, что все именно так обращались к дипломату. Но вот горе: бедный фон Штольц, несмотря на то что он производил впечатление человека хитроумного, искушенного в дипломатических тонкостях, давным-давно растерял все слова и мысли и теперь путешествовал в горах для того, чтобы вновь обрести их. Он поднял свой безжизненный взор, остановил его на незнакомом лице, затем молча опустил. Нужно было, по крайней мере, десять старых дипломатов с такими же умственными способностями, как у него, чтобы совместными усилиями составить формулу самой обыкновенной благодарности.
При этой новой неудаче лицо альпиниста приняло свирепое выражение, и по той стремительности, с какой он схватил бутылку, можно было подумать, что он сейчас запустит ею в старого дипломата и проломит ему немудрую голову. Ничуть не бывало! Он просто-напросто решил предложить вина своей соседке, но она была поглощена беседой вполголоса с двумя молодыми людьми, сидевшими рядом с ней, поглощена приятным для слуха, оживленным щебетом на каком-то непонятном языке и не слыхала, что он к ней обратился. Она беспрестанно наклонялась к своим собеседникам. Над ее маленьким прозрачным розовым ушком блестели при свете люстр завитки светлых волос… Кто она: полька, русская, норвежка?.. Во всяком случае, северянка. Тут южанин невольно вспомнил песенку своего родного края и преспокойно стал ее напевать:
Севера звезда, графиня!
Вижу я: вас нынче вновь
Серебром осыпал иней,
Чистым золотом – Любовь36.
Все обернулись: уж не сошел ли он с ума? Южанин покраснел и молча уткнулся в свою тарелку, но потом все же встрепенулся – только для того, чтобы оттолкнуть поданное ему сладкое блюдо.