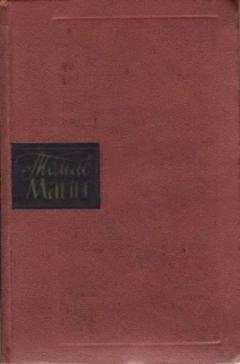Генри Филдинг - Путешествие в загробный мир и прочее
Таковы наиболее примечательные события моей портновской жизни. Немного поколебавшись, Минос отправил меня в обратный путь, даже не объявив причины.
Глава XXIII
Жизнь Юлиана-олдермена
Я снова попал в Англию и родился в Лондоне. Мой отец был мировым судьей. Из его одиннадцати детей я был старший. Необыкновенно удачливый в делах, он нажил огромное состояние, но, обремененный многочисленным семейством, не мог после себя обеспечить мне безбедное праздное существование. Посему меня отдали в учение к торговцу рыбой, в каковом качестве я потом составлю себе также порядочное состояние.
Одна и та же душевная склонность называется честолюбием у государя и духом противоречия – у его подданных. Этим-то духом я и был заражен сызмала. Совсем мальчиком я горой стоял за принца Джона, когда его брат Ричард пропадал сначала на священной войне, а потом в плену[83]. А в двадцать один год я уже заделался публичным оратором, смущал и будоражил народ. Для этой роли у меня были решительно все данные: речь без запинки, напевное произношение, приятная дикция, а главное, напористая самонадеянность, и вскоре я стяжал некоторую известность у городской молодежи и некоторых зрелых мужей с нетвердыми и близорукими взглядами. Этот успех вкупе с моим прирожденным тщеславием исполнил меня непомерной гордыней и высокомерием. Я вообразил себя влиятельным лицом и стал пренебрегать людьми, превосходившими меня во всех отношениях.
В ту пору в Йоркшире вошли в силу известный Робин Гуд[84] и его приятель Маленький Джон. По своему почину я написал Робину Гуду письмо, где от имени города приглашал его приехать, выставляя ручательством доброго приема мой большой вес и значение, а также расположение к нему подученных мной горожан. Не знаю, дошло до него это письмо или нет: ответа я так и не получил.
Некоторое время спустя в городе шумно объявился некто Уильям Фиц-Осборн, или Уильям Длиннобородый, как его величали. Это был смелый и дерзкий парень, он коноводил чернью, внушив ей, что тоже выступает против богатых. Я взял его сторону и выступил с речью в его поддержку, объявив его патриотом и рьяным защитником свободы; однако благодарности за эту услугу я от него не дождался. И все равно я держал его сторону, рассчитывая прибрать его к рукам, покуда его не остановил силой оружия архиепископ Кентерберийский: его схватили в церкви на Бау-стрит, где он укрывался, и с девятью сообщниками повесили.
Я сам едва уцелел – меня, как всех, схватили в той самой церкви, и, поскольку я был весьма основательно замешан в беспорядках, архиепископ подумывал разделаться со мной; меня спасли заслуги отца, в свое время передавшего королеве Элеоноре порядочную сумму на выкуп короля из плена.
Натерпевшись страху, я приутих и с чрезвычайным усердием занялся делом. Я изыскивал все новые средства поднять цены на рыбу и откупить как можно больше улова. Составив таким образом состояние, я приобрел некоторое влияние в городе, хотя далеко не то, каким я еще недавно гордился, а ведь у меня тогда ветер свистел в кармане, в торговых же делах без денег в силу не войдешь.
Не зря было сказано, что поход Александра в Азию и выход борца на лужок имеют один корень – честолюбие, неугомонное, как ртуть, – вот и я, наделенный им в той же мере, что и горячие герои древности, также не находил себе места, тяготясь покоем и тишью. Для начала я постарался сесть председателем в своем товариществе, только что учрежденном по указу Ричарда I, a позже добился избрания олдерменом.
Для подданного с моим характером единственное средство заявить о себе дает оппозиция, и потому, едва король Джон оказался на троне, я стал порицать любое его действие – и правое, и неправое. И то сказать: у государя было довольно недостатков. Он был так привержен разврату и роскоши, что дошел в них до крайности, а между тем французский король лишил его почти всех заморских владений – и он с этим мирился[85]; мою оппозицию королю можно поэтому оправдать, а будь мои помыслы вровень с теми обстоятельствами, то и оправдывать не было бы нужды; но я-то думал только о том, чтобы выдвинуться, сделавшись грозной силой в глазах короля, а затем продав ему содействие моей партии, в которой только и была моя сила. В самом деле, пекись я об общем благе, я бы забыл про яростное несогласие с ним в начале его царствования и не колеблясь оказал ему всяческую помощь в борьбе с папой Иннокентием III, где правда была целиком на его стороне[86]; и я бы не потерпел, чтобы наглость этого папы и кулак французского короля вынудили его позорно вручить свою корону первому из них и получить ее обратно уже в качестве вассала; и теперь папа будет кивать на него, взыскивая с нашего королевства как с ленного владения папского престола, отчего и будущие венценосцы хлебнут горя, и народу перепадет бед.
Поскольку среди прочих уступок король обязался уплатить Пандульфу[87] известную сумму, которой в данную минуту не располагал, ему было не миновать поклониться городу, а там я имел и вес и влияние, и без моей помощи он бы никак не обошелся. Понимая это, я постарался продать себя и родину подороже и оговорил себе придворную должность, пенсию и рыцарское звание. Мои условия были немедленно приняты. Я тут же был возведен в рыцарское достоинство, и были твердо обещаны другие пункты.
И вот я взошел на помост и, забыв честь и совесть, стал защищать короля с такой же горячностью, с какой раньше порицал его. Я оправдывал те самые меры, что прежде осуждал, и с такой же убежденностью призывал сограждан тряхнуть мошной, с какой прежде заклинал их не давать ему ни гроша. Увы, мое словоблудие не достигло желанной цели. Мои доводы навлекли на меня позор. Обменявшись озадаченными взглядами, все, как один, вознегодовали. Намекая на мое рыбное дело, какой-то наглец выкрикнул: – Тухлятина! – и вся толпа подхватила. Мне не оставалось ничего другого, как улизнуть домой, но неотвязная чернь, улюлюкая, гнала меня по улице, выкрикивая: – Тухлятина!
Тогда я поспешил к его величеству с отчетом о верной службе и принятых за него страданиях. Уже по тому, как меня приняли, я понял, что ему известно о моем успехе. Даже не поблагодарив меня за речь, он сказал, что город еще пожалеет о своем упрямстве – он им попомнит, с кем они имеют дело, и после этих слов повернулся ко мне той своей частью, по которой изнывает и плачет нога, и когда та столь удобно подставится, очень трудно удержаться от горячего изъявления этой любви.
Обескураженный таким приемом, я весьма запальчиво напомнил королю, что мне полагается обещанное, а он вышел, не удостоив меня ответом. Тут я воззвал к придворным, еще недавно уверявшим меня в своих дружеских чувствах, сидевшим за моим столом и меня зазывавшим к себе в гости, – но они, набрав в рот воды, бежали от меня, как от зачумленного. Так я на собственном примере убедился в том, что первый придворный может быть последним хамом.
Оставшись один, я наконец задумался над тем, что же теперь делать, точнее – куда податься? В городе меня примут вряд ли лучше, чем при дворе, но там мой дом, и на время надо затаиться в его стенах.
Хотя я был готов к тому, что город обойдется со мной круто, действительность превзошла все ожидания. Там и тут толпы народа осаждали моего иноходца, всячески выражая мне свое презрение и осыпая бранью и даже камнями. С превеликим трудом добрался я домой в целости и невредимости, хотя и облитый всякой дрянью.
Переступив свой порог, я первым делом запер двери, но чернь, набушевавшись, вроде бы готова была оставить меня в покое; зато жена, горько оплакивая детей, вместо слов утешения приготовила мне разнос. Почему, спросила она, я решаюсь на такой шаг, не посоветовавшись с ней; если я надумал не считаться с ней, сказала она, то спросил бы хоть для приличия. Я-де могу думать о ней что угодно, но люди к ней прислушиваются, и слушаясь ее, я-де никогда не попадал впросак, как и не добивался ничего без ее подсказки; в этом роде она еще долго говорила, не хочу вам докучать, но вот что сказала напоследок: чудовищно, мол, что я предал свою партию и переметнулся на сторону двора. Этот упрек был горше всех: она же сама не один год ругмя ругала оппозицию, нахваливала придворную партию и склоняла меня перейти к ним! А уж когда я проговорился, что мне посулили рыцарское звание, так она и ночью не давала мне покоя – все зудела в уши: глупо, мол, отказываться от почестей, держаться за какую-то партию и иметь убеждения, от которых не будет проку ни мне самому, ни близким.
Торговля моя совсем захирела, и уже ничто не держало меня в городе, где я всякий день терпел обиды и поношение. Поэтому я наскоро разделался с делами, собрал какие мог пожитки и уехал в провинцию, где доживал свой век всеми презираемый и избегаемый, выслушивая попреки жены и грубости детей.
Хоть я был большим негодяем, сказал мне Минос, страданьями я отчасти искупился, и он послал меня на новое испытание.
![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/uploads/posts/books/139086/139086.jpg)