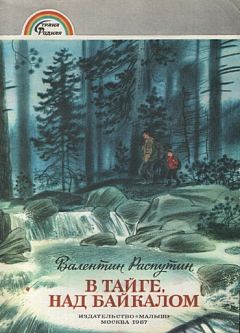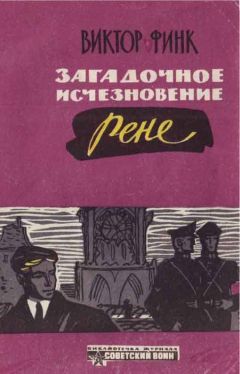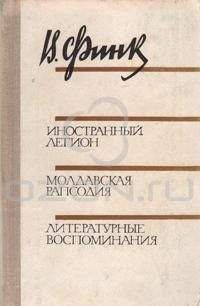Виктор Финк - Евреи в тайге
Выглянуло солнце. Оно улыбнулось парням в глаза, перебежало к рыжим коровам и устроилось в перелеске, где пурпуром играли заросли дикого винограда и калины.
— Бувайте здоровы!..
Шестнадцать местечковых мальчуганов получили обычную переселенческую ссуду и кредит от Сельского банка Дальнего Востока. Получили в конце апреля, успели немного вспахать, засеять и организовать молочную ферму. Но хозяйственная неудача этого года была катастрофической.
— Понимаете? — надо было сеять на рёлках, а мы сеяли на пади. А летом дожди ударили чисто как из ружья. Два года подряд дожди идут небывалые, и низины затоплены. А мы как раз на низине и сеяли. Пшеницы пять гектаров вымокло, овса девять — вымокло, гречихи пять— вымокло, сои полгектара — вымокло, огород вымок весь. Сено вымокло — две тысячи пудов.
Мне сделалось уныло от этого перечисления. Все вымокло!.. Что тут поделаешь с этаким «еврейским счастьем»?
Среди разговоров мы подъехали к самой коммуне. Это несколько деревянных построек, раскиданных с российской безалаберностью на громадной площадке. Равнина здесь, как тарелка. Конный пастух, сдавив ногами бока высоченной пегой лошади, сгонял стадо к коровнику. А коровы мычали, взбираясь по мосткам в коровник: коровы степенно шли доиться. Это были те самые коровы, благодаря которым в этом году, когда почти все посевы так глупо вымокли, продержалось хозяйство коммуны.
Коммуна сдает Дальсельсоюзу сливки, получая за литр сливок стоимость семи литров молока.
Но тут начинается игра ума.
— Не смотрите, что коровы малорослые. Зато молочные. Они дают литр сливок из пяги литров молока.
Кроме того, при выделке сливок остается творог, который съедается, а остатки продаются на сторону. Остается еще и отгон. Он идет на выкормку свиней.
Икоровцы купили у соседа-крестьянина несколько молочных поросят. Для опыта стали их кормить отгоном. Теперь поросята, оставшиеся у крестьянина, не достигают и по брюхо своим братцам, которые попали в еврейскую коммуну. Те живут по расейской рутине: их кормят помоями, и хозяин зарежет их под рождество. Одних он пропьет, другими закусит. А минские молодые коммунары готовят бэконных экспортных свиней, ценный товар, за который рассчитывают получить сельскохозяйственную машину.
Я помогал перетаскивать ведра с отгоном. Теплый запах вырвался из кухни, прошел через коровник и сразу ударил в носы тучному, мясистому, розовому племени иоркширов, которое уже нетерпеливо возилось у двери. С визгом и гомоном бросились они к нам. Боров, почтенный, крутой иоркшир, тяжело мотая розовым рылом, все норовит поесть отгону вне очереди да побольше.
— Это — наша чистая прибыль, эти свиньи, — сказал кто-то из парней и добавил — И сад тоже!
Фруктовый сад, который заложили минские мальчуганы, имеет всего около гектара. Замечателен он, однако, следующими двумя приметами: он первый по величине и хронологически тоже первый культурный фруктовый сад в Биробиджане.
Уже давно теоретически известна плодородность приамурской почвы. Но едят здесь дикий виноград, лесную ягоду голубицу да дикое таежное яблоко величиной со смородину. Сад построили все в счет тех же полученных кредитов, а, главное, все на те же доходы от молочного хозяйства. Других доходов не было:
— Нас же затопило!..
— Как вернется завхоз из города, — так сейчас айда в Сибирь за скотом: удваиваем стадо.
— Конечно, — заметил председатель, — мы имеем успех потому, что сразу попали в хорошие условия: дорога сносная и недалекая, и готовые дома. А кто попадает в другие районы, как бывает — за восемьдесят километров от станции, и там только тайга и ничего не приготовлено, — тем, конечно, плохо.
Я знаю, как плохо тем, кого безрассудство переселенческих планов забросило небольшими кучками в 5–6 семей за 80 километров от железной дороги, в тайгу и за болота. Что они там успеют? В какой мере и когда смогут они овладеть этой дикой, но волшебной страной?
Успех Икора, даже то, что Икору удалось спасти от наводнения, — маленький кристалл той драгоценной породы, которая называется Биробиджаном.
Позвали обедать.
Вот как питается коммуна в этот тяжелый год: утром едят свои сливки с творогом, мед со своей пасеки, на обед — телятину с картошкой. На ужин подали довольно вкусную рыбу. Это была кета, очень распространенная на Дальнем Востоке. Насчет телятины меня предупредили, что она «своя», от своих коров приплод. А насчет кеты не сказали. Я решил, — покупная. Значит, пчеловод с басом даром тревожился насчет рыбы-фиш: хоть кета, конечно, не щука с перцем, но евреи, повидимому, умеют есть и кету.
На стол все подается в неограниченных количествах, не по аппетиту местечка, а по аппетиту амурских казаков. Мой возница, парень с чубом, показывал катастрофические номера в еде: он точно отъедался за всех своих предков, которые голодали в местечке.
Уписывая вторую миску телятины с картошкой, он только раз обмолвился замечанием:
— Эх! — со вздохом сказал он. — Обида! Капусту подмочило и огурки. А то б сюда кислой капусты миску и огуркй…
Это был прирожденный едок, едок по призванию.
Вечером, в темноте, у скирды, женский голос шептал по-украински:
— Шмулик, серденько!.. Та не ходи до нас у Дежневку, бо воны тоби вси печенки повидбивають…
В коммуне, если не считать стряпухи-казачки, нет женщин.
— Нас так и зовут — еврейский монастырь, — сказал мне один колхозник.
Правда, когда я стал расспрашивать, кто и почему дал им такое прозвание, то святость стала понемногу отваливаться.
— Из Дежневки парни…
— Ну!..
— Ну, из Дежневки украинские парни старожильческие так прозвали…
Прозвание дано на почве антирелигиозной пропаганды за то, что икоровцы ведут себя в отношении дежневских девчат вполне как те монахи, которых описывает журнал «Безбожник».
— Чтоб мы до их девчат не ходили, бо мы ходили до их девчат…
Я делал записи.
Вдруг из соседней комнаты донесся шум. Она вся заполнилась шумом. Захлебывалась гармошка. Кто-то тяжелыми ногами выстукивал под гармонь на известный мотив:
И-эх, сыпь, Семен,
И подсыпай, Семен.
Раздался женский визг:
— И-и-и…
Визг был пронзителен, как зов на помощь. Однако было в нем и что-то, из чего всякому было ясно, что побежать на помощь было бы величайшим свинством.
— Это дежневские девчата пришли, — пояснил колхозник, сидевший со мной. — Теперь они уже до нас ходят.
Женский голос выщелкивал.
И-эх, и чай пила,
Самоварэничала…
Щи варила, перьварила,
Накухарэничала…
И опять визг, и гармонь, и топот тяжелых кованых сапог. Это топали бывшие худосочные мальчики из еврейских местечек, ставшие пастухами на Амуре.
Сыпь, Семен,
Да подсыпай, Семен…
Я вышел во двор. Была прохладная ночь. Поезд просвистел с Запада, с родины Великой революции.
Рано утром я уезжал. Меня накормили за завтраком свежайшей кетовой икрой.
Это тоже было — свое.
В нескольких километрах отсюда протекает река Тунгуска, впадающая в Амур. Дикая река. Живут там гольды, народ первобытный, — бьет зверя и ловит рыбу. Летом, когда кета пошла из океана и появилась в притоках Амура, мальчишки из белорусских местечек, рядом с гольдами ловили кету на стремнинах дикой Тунгуски. Подхватывая рыбу под жабры, они, как гольды, крепким ударом ножа вскрывали ей брюхо и вынимали душистую и вкусную икру.
Иом-Кипур
В этом году праздник судного дня, Иом Кипур, приходился на понедельник. А на воскресение, накануне судного дня. По всему Биробиджану был назначен воскресник в пользу постройки самолета «Биробиджан».
Я находился в поселке при станции Тихонькая. Оттуда километрах в десяти есть в тайге еврейский поселок Вальдгейм. В воскресение я решил выехать туда. Я думал приехать пораньше, сделать несколько снимков воскресника: предполагалась корчовка леса. Но рано выехать не пришлось: озетовские агрономы в Тихонькой готовили к завтрему стенную газету, посвященную начинавшейся неделе коллективизации, и просили меня отвезти ее. Я не мог отказаться от чести быть первым газетчиком, который привез в тайгу, в самую тайгу, первый номер стенной газеты. Но пришлось ждать, и я выехал лишь часов в пять дня.
Я приехал в Вальдгейм поздно, в такой час, когда воскресники уже окончены, а порядочные люди, — там, где они есть, — уже возвратились из синагоги.
Группа прохожих шарахнулась от меня в испуге: я появился из темноты неожиданно, верхом на громадной белой лошади, с громадным рулоном в руках. Мне указали дом, где я должен был сдать стенгазету. Едва соскочив с коня, я был подхвачен знакомыми колонистами.
— Ну, чуть не опоздали! Идем скорей!