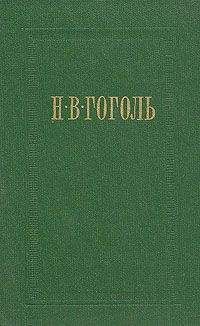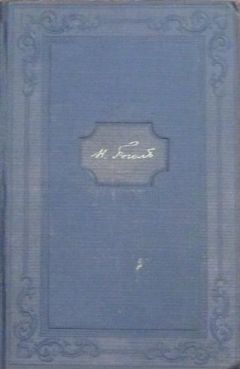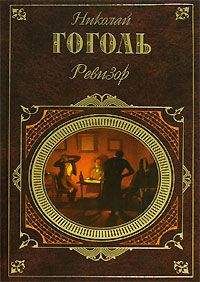Оскар Уайльд - Портрет Дориана Грея
— Спасибо, Бэзил, — сказал Дориан Грей, пожимая ему руку. — Я знал, что вы меня поймете. А Гарри просто в ужас меня приводит своим цинизмом… Ага, вот и оркестр! Он прескверный, но играет только каких-нибудь пять минут. Потом поднимется занавес, и вы увидите ту, которой я отдам всю жизнь, которой я уже отдал лучшее, что есть во мне.
Через четверть часа на сцену под гром рукоплесканий вышла Сибила Вэйн. Ею и в самом деле можно было залюбоваться, и даже лорд Генри сказал себе, что никогда еще не видывал девушки очаровательнее. В ее застенчивой грации и робком выражении глаз было что-то, напоминавшее молодую лань. Когда она увидела переполнявшую зал восторженную толпу, на щеках ее вспыхнул легкий румянец, как тень розы в серебряном зеркале. Она отступила на несколько шагов, и губы ее дрогнули. Бэзил Холлуорд вскочил и стал аплодировать. Дориан сидел неподвижно, как во сне, и не сводил с нее глаз. А лорд Генри все смотрел в бинокль и бормотал: «Прелесть! Прелесть!»
Сцена представляла зал в доме Капулетти. Вошел Ромео в одежде монаха, с ним Меркуцио и еще несколько приятелей. Снова заиграл скверный оркестр, и начались танцы. В толпе неуклюжих и убого одетых актеров Сибила Вэйн казалась существом из другого, высшего мира. Когда она танцевала, стан ее покачивался, как тростник над водой. Шея изгибом напоминала белоснежную лилию, а руки были словно выточены из слоновой кости.
Однако она оставалась до странности безучастной. Лицо ее не выразило никакой радости, когда она увидела Ромео. И первые слова Джульетты:
Любезный пилигрим, ты строг чрезмерно
К своей руке: лишь благочестье в ней.
Есть руки у святых: их может, верно,
Коснуться пилигрим рукой своей,
— как и последовавшие за ними реплики во время короткого диалога, прозвучали фальшиво. Голос был дивный, но интонации совершенно неверные. И этот неверно взятый тон делал стихи неживыми, выраженное в них чувство — неискренним.
Дориан Грей смотрел, слушал — и лицо его становилось все бледнее. Он был поражен, встревожен. Ни лорд Генри, ни Холлуорд не решались заговорить с ним. Сибила Вэйн казалась им совершенно бездарной, и они были крайне разочарованы.
Понимая, однако, что подлинный пробный камень для всякой актрисы, играющей Джульетту, — это сцена на балконе во втором акте, они выжидали. Если Сибиле и эта сцена не удастся, значит, у нее нет даже искры таланта.
Она была обворожительно хороша, когда появилась на балконе в лунном свете, — этого нельзя было отрицать. Но игра ее была нестерпимо театральна — и чем дальше, тем хуже. Жесты были искусственны до нелепости, произносила она все с преувеличенным пафосом. Великолепный монолог:
Мое лицо под маской ночи скрыто,
Но все оно пылает от стыда
За то, что ты подслушал нынче ночью,
— она произнесла с неуклюжей старательностью ученицы, обученной каким-нибудь второразрядным учителем декламации. А когда, наклонясь через перила балкона, дошла до следующих дивных строк:
Нет, не клянись. Хоть радость ты моя,
Но сговор наш ночной мне не на радость.
Он слишком скор, внезапен, необдуман,
Как молния, что исчезает раньше,
Чем скажем мы: «Вот молния!» О милый,
Спокойной ночи! Пусть росток любви
В дыханье теплом лета расцветет
Цветком прекрасным в миг, когда мы снова
Увидимся…
— она проговорила их так механически, словно смысл их не дошел до нее. Этого нельзя было объяснить нервным волнением. Напротив, Сибила, казалось, вполне владела собой. Это была попросту очень плохая игра. Видимо, актриса была совершенно бездарна.
Даже некультурная публика задних рядов и галерки утратила всякий интерес к тому, что происходило на сцене. Все зашумели, заговорили громко, послышались даже свистки. Еврей-антрепренер, стоявший за скамьями балкона, топал ногами и яростно бранился. И только девушка на сцене оставалась ко всему безучастна.
Когда окончилось второе действие, в зале поднялась буря шиканья. Лорд Генри встал и надел пальто.
— Она очень красива, Дориан, — сказал он. — Но играть не умеет. Пойдемте!
— Нет, я досижу до конца, — возразил Дориан резко и с горечью. — Мне очень совестно, что вы из-за меня потеряли вечер, Гарри. Прошу прощения у вас обоих.
— Дорогой мой, мисс Вэйн, наверное, сегодня нездорова, — перебил его Холлуорд. — Мы придем как-нибудь в другой раз.
— Хотел бы я думать, что она больна, — возразил Дориан. — Но вижу, что она просто холодна и бездушна. Она совершенно изменилась. Вчера еще она была великой артисткой. А сегодня — только самая заурядная средняя актриса.
— Не надо так говорить о любимой женщине, Дориан. Любовь выше искусства.
— И любовь и искусство — только формы подражания, — сказал лорд Генри. — Ну, пойдемте, Бэзил. И вам, Дориан, тоже не советую здесь оставаться. Смотреть плохую игру вредно для души… Наконец, вряд ли вы захотите, чтобы ваша жена оставалась актрисой, — так не все ли вам равно, что она играет Джульетту, как деревянная кукла? Она очень мила. И если в жизни она понимает так же мало, как в искусстве, то более близкое знакомство с ней доставит вам много удовольствия. Только два сорта людей по-настоящему интересны — те, кто знает о жизни все решительно, и те, кто ничего о ней не знает… Ради бога, дорогой мой мальчик, не принимайте этого так трагично! Секрет сохранения молодости в том, чтобы избегать волнений, от которых дурнеешь. Поедемте-ка со мной и Бэзилом в клуб! Мы будем курить и пить за Сибилу Вэйн. Она красавица. Чего вам еще?
— Уходите, Гарри, — крикнул Дориан. — Я хочу побыть один. Бэзил, и вы уходите. Неужели вы не видите, что у меня сердце разрывается на части?
К глазам его подступили горячие слезы, губы дрожали. Отойдя в глубь ложи, он прислонился к стене и закрыл лицо руками.
— Пойдем, Бэзил, — промолвил лорд Генри с неожиданной для него теплотой. И оба вышли из ложи.
Через несколько минут снова вспыхнули огни рампы, занавес поднялся, и началось третье действие. Дориан Грей вернулся на свое место. Он был бледен, и на лице его застыло выражение высокомерного равнодушия. Спектакль продолжался; казалось, ему не будет конца. Зал наполовину опустел, люди уходили, стуча тяжелыми башмаками и пересмеиваясь. Провал был полный.
Последнее действие шло почти при пустом зале. Наконец занавес опустился под хихиканье и громкий ропот.
Как только окончился спектакль, Дориан Грей помчался за кулисы. Сибила стояла одна в своей уборной. Лицо ее светилось торжеством, глаза ярко блестели, от нее словно исходило сияние. Полуоткрытые губы улыбались какой-то одной ей ведомой тайне.
Когда вошел Дориан Грей, она посмотрела на него с невыразимой радостью и воскликнула:
— Как скверно я сегодня играла, Дориан!
— Ужасно! — подтвердил он, глядя на нее в полном недоумении. — Отвратительно! Вы не больны? Вы и представить себе не можете, как это было ужасно и как я страдал!
Девушка все улыбалась.
— Дориан. — Она произнесла его имя певуче и протяжно, упиваясь им, словно оно было слаще меда для алых лепестков ее губ. — Дориан, как же вы не поняли? Но сейчас вы уже понимаете, да?
— Что тут понимать? — спросил он с раздражением.
— Да то, почему я так плохо играла сегодня… И всегда буду плохо играть. Никогда больше не смогу играть так, как прежде.
Дориан пожал плечами.
— Вы, должно быть, заболели. Вам не следовало играть, если вы нездоровы. Ведь вы становитесь посмешищем. Моим друзьям было нестерпимо скучно. Да и мне тоже.
Сибила, казалось, не слушала его. Она была в каком-то экстазе счастья, совершенно преобразившем ее.
— Дориан, Дориан! — воскликнула она. — Пока я вас не знала, я жила только на сцене. Мне казалось, что это — моя настоящая жизнь. Один вечер я была Розалиндой, другой — Порцией. Радость Беатриче была моей радостью, и страдания Корделии — моими страданиями. Я верила всему. Те жалкие актеры, что играли со мной, казались мне божественными, размалеванные кулисы составляли мой мир. Я жила среди призраков и считала их живыми людьми. Но ты пришел, любимый, и освободил мою душу из плена. Ты показал мне настоящую жизнь. И сегодня у меня словно открылись глаза. Я увидела всю мишурность, фальшь и нелепость той бутафории, которая меня окружает на сцене. Сегодня вечером я впервые увидела, что Ромео стар, безобразен, накрашен, что лунный свет в саду не настоящий и сад этот — не сад, а убогие декорации. И слова, которые я произносила, были не настоящие, не мои слова, не то, что мне хотелось бы говорить. Благодаря тебе я узнала то, что выше искусства. Я узнала любовь настоящую. Искусство — только ее бледное отражение. О радость моя, мой Прекрасный Принц! Мне надоело жить среди теней. Ты мне дороже, чем все искусство мира. Что мне эти марионетки, которые окружают меня на сцене? Когда я сегодня пришла в театр, я просто удивилась: все сразу стало мне таким чужим! Думала, что буду играть чудесно, — а оказалось, что ничего у меня не выходит. И вдруг я душой поняла, отчего это так, и мне стало радостно. Я слышала в зале шиканье — и только улыбалась. Что они знают о такой любви, как наша? Возьми меня отсюда, Дориан, уведи меня туда, где мы будем совсем одни. Я теперь ненавижу театр. Я могла изображать на сцене любовь, которой не знала, но не могу делать это теперь, когда любовь сжигает меня, как огонь. Ах, Дориан, Дориан, ты меня понимаешь? Ведь мне сейчас играть влюбленную — это профанация! Благодаря тебе я теперь это знаю.