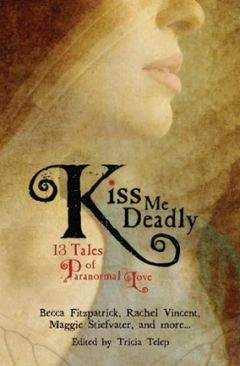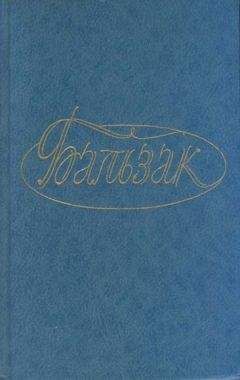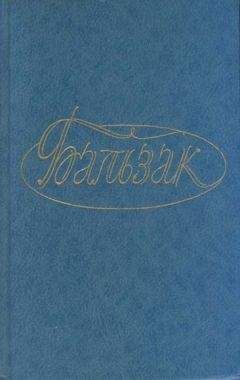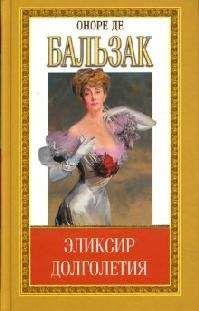Оноре Бальзак - Герцогиня де Ланже
— Поверьте, герцогиня, я в отчаянии, что Господь Бог не изобрёл для женщин иного способа скрепить дар своего сердца, как отдаваясь безраздельно. Вы цените свою особу столь высоко, что и я, естественно, должен ценить её не меньше. Если вы принесли мне в дар свою душу и все ваши помыслы, как вы уверяете, то что вам стоит подарить и остальное? Впрочем, если подарить мне счастье — такая тяжёлая жертва для вас, не будем об этом говорить. Однако вы должны простить человеку с гордой душой, что он чувствует себя оскорблённым, когда с ним обращаются как с собачонкой.
Тон этих последних слов испугал бы, вероятно, всякую другую женщину, но когда юбка возомнит себя выше всего на свете, предоставляя обожествлять себя, ни один земной властитель не сравнится с ней высокомерием.
— Поверьте, маркиз, я в отчаянии, что Господь Бог не изобрёл для мужчины иного более достойного способа скрепить дар своего сердца, как изъявляя самые низменные вожделения. Если женщина, отдаваясь самозабвенно, становится рабыней, то мужчина, овладев ею, не связывает себя ничем. Кто мне поручится, что я всегда буду любима? Нежные ежеминутные проявления любви, вместо того чтобы привязать, может быть, напротив, оттолкнут вас и заставят покинуть меня. Я не желаю повторить судьбу госпожи де Босеан. Кто знает, что именно привязывает вас к нам. В иных из вас можно поддерживать постоянство лишь постоянной холодностью; другим нужна вечная преданность, непрестанное обожание; тех привлекает кротость, этих — деспотизм. Ни одна женщина ещё не научилась читать в ваших сердцах. — Помолчав немного, она заговорила другим тоном: — Поймите, друг мой, нельзя же запретить женщине с трепетом задавать себе вопрос: «Будет ли он любить меня всегда?» Как ни жестоки мои слова, они вызваны страхом потерять вас. Великий Боже! ведь это не я говорю, дорогой мой, это во мне говорит рассудок; и откуда только он взялся у такого безрассудного создания? Право, я и сама не понимаю!
Услыхать такой ответ, начатый в едком, насмешливом тоне и законченный самым нежным, мелодичным голосом, какой когда-либо женщина пускала в ход, чтобы выразить любовь со всей непосредственностью, — не значило ли это перенестись в одно мгновение из ада в небеса? Монриво побледнел и впервые за всю свою жизнь упал на колени перед женщиной. Он целовал край её платья, её ноги, её колени; впрочем, соблюдая честь Сен-Жерменского предместья, остережёмся разглашать тайны будуаров, где любви разрешалось все, кроме того единственного, чем можно доказать любовь.
— Антуанетта, дорогая, — вскричал Монриво, счастливый и восхищённый полной покорностью герцогини, которая гордилась своим великодушием, позволяя себя обожать, — да, ты права, я не могу допустить, чтобы ты сомневалась во мне. Я тоже трепещу при мысли, что мой ангел-хранитель покинет меня, я хотел бы связать нас с тобой неразрывными узами.
— А, вот видишь, — прошептала она, — значит, я была права.
— Позволь мне договорить, — продолжал Арман, — и я рассею все твои опасения единым словом. Послушай, я заслуживал бы самой страшной казни, если бы покинул тебя. Предайся мне всецело, я дам тебе право убить меня, если я изменю. Я собственноручно напишу письмо, где объясню, какие причины побудили меня покончить с собой, наконец, я сделаю свои последние распоряжения. В твоих руках будет завещание, объясняющее мою смерть, и ты сможешь отомстить, не опасаясь ни Божьего, ни людского суда.
— Зачем мне такое письмо? Если я потеряю твою любовь, для чего мне жизнь? Если бы я захотела тебя убить, разве не последовала бы я за тобой? О нет, благодарю тебя за эту мысль, но письма мне не нужно. Возможно, я стала бы подозревать, что ты верен мне только из страха, возможно также, что измена, связанная с опасностью, показалась бы заманчивой тому, кто привык рисковать жизнью. Нет, Арман, то единственное, чего я прошу, труднее всего исполнить.
— Чего же ты хочешь в конце концов?
— Твоего повиновения и полной моей свободы.
— Боже, — воскликнул он, — ты играешь со мной, как с ребёнком!
— Да, ты упрямый и балованный ребёнок, — сказала она, лаская густые кудри на его голове, приникшей к её коленям, — о да, балованный и любимый гораздо более, чем он думает, и, однако, ужасно непослушный Неужели вам мало того, что есть? Неужели нельзя пожертвовать ради меня желаниями, которые меня оскорбляют? Неужели нельзя довольствоваться тем, что я предлагаю, если это все, что я могу даровать, не теряя чести? Разве вы не счастливы теперь?
— О да, — отвечал он, — я счастлив, когда меня не мучают сомнения. Ах, Антуанетта, усомниться в любви все равно что умереть.
Он стал вдруг красноречивым, обаятельным, каким был на самом деле, какими становятся все мужчины, воспламенённые желанием. Вкусив дозволенных наслаждений, установленных, вероятно, каким-нибудь тайным иезуитским указом, герцогиня упивалась теперь любовными речами Армана, которые стали ей так же необходимы, как светское общество, опера и балы Быть возлюбленной человека выдающегося, сильного, грозного для всех, обратить его в ребёнка, играть с ним, как Поппея с Нероном, — много женщин, подобно супругам Генриха VIII, поплатились за это счастье кровью и жизнью. Какое странное предчувствие! Давая ему ласкать свои прелестные белокурые локоны, которые он любил перебирать пальцами; ощущая прикосновение маленькой руки этого большого человека; играя непокорными прядями его чёрных волос, здесь, в тиши будуара, в своём царстве, — герцогиня не могла избавиться от мысли. «Этот человек способен убить меня, если догадается, что я над ним потешаюсь».
Господин де Монриво до двух часов ночи оставался у своей возлюбленной, которая в эти минуты не была для него ни герцогиней, ни урождённой Наваррен; Антуанетта притворялась так ловко, что казалась просто женщиной. В этот сладостный вечер, во время самого нежного предисловия, какое когда-либо парижанка предпосылает своему так называемому «падению», она, хотя и не без жеманства и притворной стыдливости, разрешила генералу любоваться своей девственной красотой. Он имел некоторое основание принять её сопротивление и все её причуды за стыдливые покровы небесной души, которые надо было совлечь один за другим, подобно одеяниям, скрывающим её обворожительную красоту. Герцогиня казалась ему самой наивной, самой несравненной из любовниц, он выбрал бы её из всех женщин. Он ушёл от неё вне себя от счастья, уверенный, что, подарив ему столько доказательств любви, она уже не может не признать его отныне своим тайным супругом, своим избранником перед Богом. Погруженный в эти наивные мысли, свойственные тем, кто, наслаждаясь любовью, сам чувствует всем сердцем налагаемые ею обязательства, Арман медленно возвращался домой. Он шёл вдоль набережных, чтобы видеть как можно больше открытого пространства, ему хотелось расширить небосвод и всю природу, до того полна была его душа. Его лёгкие, казалось, вдыхали больше воздуха, чем накануне. По пути он вопрошал своё сердце и давал клятву любить эту женщину с таким благоговением, чтобы она постоянно, ежедневно в самом счастье обретала искупление своего греха перед обществом. Сладостные восторги жизни, бьющей через край! Люди, способные отдаться всей душой одному-единственному чувству, испытывают неизъяснимое блаженство, созерцая во внезапном озарении вечный, неугасимый пламень жизни, подобно иным отшельникам, созерцавшим в экстазе сияние божества. Не будь этой веры в вечность, любовь ничего бы не стоила; только постоянство делает её великой. Именно так понимал страсть Монриво, возвращаясь домой в упоении счастья. «Теперь мы принадлежим друг другу навеки'» Эта мысль служила ему талисманом для осуществления его заветных мечтаний. Он и не спрашивал себя, изменится ли герцогиня, долго ли продлится их любовь; нет, он обладал твёрдой верой — добродетелью, на которой зиждется для христианина загробное блаженство и которая, быть может, ещё более необходима для общества. До сих пор он отдавал себя деятельности, требующей непомерного напряжения человеческих сил и беззаветной солдатской храбрости, — теперь он впервые постигал жизнь чувством.
На другой день поутру г-н де Монриво заехал в Сен-Жермен-ское предместье. У него было деловое свидание по соседству с особняком де Ланже, и, покончив с делами, он отправился туда, как к себе домой. Генерал шёл в сопровождении человека, которому, встречаясь с ним в свете, он выказывал как бы некоторую неприязнь. Это был маркиз де Ронкероль, прославленный герой парижских будуаров, человек умный, одарённый и прежде всего смелый, задающий тон парижской молодёжи, любимец женщин, который внушал зависть как своими успехами, так и обширным опытом и обладал к тому же богатством и высоким происхождением, придающим в Париже особый блеск всем достоинствам баловней моды.
— Куда ты идёшь? — спросил г-н де Ронкероль у Монриво.
— К госпоже де Ланже.