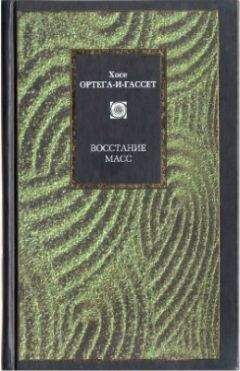Хосе Ортега-и-Гассет - Анатомия рассеянной души. Древо познания
Чулизм, фламенкизм, драчливость, и многие другие выразительные формы, излюбленные нашим народом, можно было бы достаточно правдоподобно свести к выражению коллективной истерии. Не скрою, что проекция двух типов клинической картины индивидуальной патологии — истерии и невроза — на коллективную духовность перестает описывать болезнь в медицинском смысле слова. Отметим это. Но она превращается в болезнь в историческом смысле слова. Отметим и это.
В определенном отношении мы находим в Барохе некое высшее проявление национального истеризма. Мы все немножко — как он, но мы менее искренни. Самое лучшее и самое худшее в современной Испании проявляется у Барохи совершенно обнаженно, как будто демонстрируемые живые существа лишены кожи. Я далек от того, чтобы это критиковать, но мне показался наиболее плодотворным тот подход, с помощью которого можно избавиться от его произведения, что я и сделал. Через пятьдесят лет книги Барохи будут иметь особую ценность в качестве национальных симптомов.
То, что привычно для Барохи, не менее привычно и для нас, остальных иберов: каждое слово для нас — клетка, куда мы сажаем зверя, то есть наши страсти. В целом испанский характер того пошиба, что описан у Барохи, начинает превращаться просто в дурной характер.
Нарисованный лев
Бароха как-то рассказал мне, что во время его пребывания в Риме дал почитать «Ярмарку благоразумных»[125] одной знатной итальянке. Через несколько дней писатель спросил даму, «как ей показался роман», и она ему ответила искренне: «Questo Quentino é troppo impertinente!»[126].
Если бы пулемет мог иметь какую-нибудь репутацию, она походила бы на репутацию персонажей романов «Ярмарка благоразумных», «Парадокс, король»[127], «Красная Заря».
Для Барохи ни одна идея не кажется заслуживающей внимания, коль скоро она не содержит вызова; то есть если эта идея не направлена против кого-то или чего-то. Его идеи всегда являются отповедями на воображаемые атаки, и эти отповеди переворачивают все вокруг; это инстинктивные защитные реакции.
Конечно, человек, чья мысль сродни инстинкту самосохранения, все время вынужден думать о том, как противостоять своему окружению, чтобы оно его не поглотило. Бароха всесторонне ощетинивается страницами своих книг подобно тому, как ёж выставляет свои колючки.
Вот видите! Так бывает с робким человеком. Ведь робкий человек всегда обеспокоен своей защитой.
Полагаю, излишне предупреждать, что я говорю исключительно о Барохе-мыслителе, Барохе как представителе литературного государства. В качестве человека из плоти и крови я считаю его способным в одиночку завоевать обе Индии. Но его психология есть психология человека застенчивого, у которого отобрали его «я», как будто украли часы из портмоне.
Стендаль[128], его учитель, имел ту же самую психологическую комплекцию. Он порождал вокруг себя энергичных персонажей, и ему приятно было считать их какой-то воображаемой гвардии преторианцев. Это его успокаивало. Его философия эгоизма была укрепленной башней, которую он возвел, чтобы внутри нее чувствовать себя уверенно.
Интересно, что метод, предложенный Барохой для утверждения «культа я», состоял в том, что последовательно убиваются и «ты» и «он». Сначала Бароха создает пустыню, а затем посреди нее строит свое «я» — как укрепленную башню.
Произведение искусства — хотя Бароха начинает создавать таковое как произведение нервов, в конечном счете и у него это — все же произведение искусства — исходит прежде всего из требования совершенства, полноты. Когда произведение имеет субъективное содержание — например, как у Барохи, несмотря на внешнюю форму романа, — то автор наполняет его своим собственным сердцем. Достаточно прочитать совсем немного страниц для выяснения того факта, что наш пантагрюэлический баск, угрожающий пожрать себе подобных, в действительности сам раздираем великими страстями, великой ненавистью, великими стремлениями, великими идеями и даже великими книгами. Он проживает существования, затрагивающие его собственную жизнь: так каменистые долины выталкивают юношей из своего лона к морю, чтобы они одним прыжком оседлали голубые гребни волн.
Не слишком часто возникает у Барохи интуитивная полнота или насыщенность, а это — обязательное условие для того, чтобы поэтическое произведения обрело необходимую плотность, которая позволила бы ему утвердиться в мире вещей на равных или даже как нечто большее, чем они. Он не погружается в глубь моря бытия, чтобы судорожно выцарапать оттуда те жизни, которые он описывает. Как они сами себя подают, так он нам о них и рассказывает.
Для того, чтобы быть романом о любви и смерти, недостаточно, чтобы в книге повествовалось о ком-то, кто любил и убил. Роман — не рассказ. И тем более не репортаж или сообщение.
Однако в интенциях всех персонажей Барохи имеется одна общая нота, мало различимая в каждом персонаже в отдельности, но подлинная и глубоко искренняя: варварская энергия людей, в стремлении к свежему воздуху надломивших коросту, которой затянулось общество.
Такова главная тема, которую разрабатывает поэзия Барохи, то, что несомненно ценно в его труде. И этого уже достаточно.
Бароха хотел бы немедленно направить нас туда, где действуют сугубо биологические силы, которые носятся взад-вперед, обрушиваясь на мир с бешеной, головокружительной скоростью.
Остается только пожалеть, что для него человек начинается там, где кончается гражданин, где начинается антропоид, некий организм, получающий космические жизненные энергии. Я не читал книг никакого другого автора, который испытывал бы такую целенаправленную ностальгию по орангутангам. Произведения Барохи — трактаты о человеческих гнусностях.
Одним из тех редких писателей, кем Бароха восхищался, был Ницше[129]. Почему? Ведь это такая редкость, что Бароха кем-то восхищается! Ну, должно быть, потому, что Ницше открыл «идеал сверхчеловека», который, по мнению Барохи, является «плотоядным, страстным, блуждающим по жизни»[130]. Таким хотел бы быть сам автор, но он, напротив, стал лысеющим эстетом, добрым и нежным, который бесцельно бродит по улице Алкала, и, стремясь восполнить самого себя, создает персонажей, которые похожи на его собственные амбиции. Как уныло! Да за пару тигриных клыков Бароха с радостью отдал бы свое место на Парнасе[131].
Однако динамический императив, заключенный в его романах, дорогого стоит.
Симпатии автора в отношении анархизма растут из того же корня.
Как и Стендалю, ему интересно прежде всего наблюдать и воспроизводить то напряжение энергетического выброса, которое зовет человека пробить свою индивидуальную материальную оболочку и занять как можно больше пространства. Он восхищается тем, что в человеке есть общего с зерном, которое, находясь под землей и подчинясь мощнейшему инстинкту, отдает земледельцу свое тело, чтобы пробить в земле раны для проникновения света и воздуха и мощно выпрямиться над земной твердью, став заданным экземпляром растения, как если бы им управляла какая-то идея.
Для анархизма индивидуумы — единственная позитивная сущность мироздания. Как мощные потоки, они пронзают грубую материю, инертные предметы, бесконечность мира. Эта материя есть только отрицание, чистая пассивность и оправдана лишь как препятствие, которое индивидуальная динамика должна преодолевать. Индивидуумы суть источники и фонтаны энергии, накопленной в себе élan vital, как выражается мистер Бергсон, открыватель этого понятия[132]. Но материя, переносимая потоками этих течений, сама направляет их, вводит в русло берегов и сдерживает. Наступает время уныния, в которое с помощью свода законов, порядка и обычаев погружаются индивидуальности до тех пор, пока они не начнут, отбрыкиваясь от обстоятельств, выплескиваться из стоячих водоемов и обновлять лик мира.
Согласно Хуану из «Красной зари», «прогресс — это не что иное, как уничтожение принципа власти путем установления свободы воли и сознания»[133]. Другой непонятный выскочка, Либертарий, говорит в том же самом романе: «В сфере идей, в области морали происходит полный переворот, и только закон, несмотря на все эти изменения, остается окаменелым, незыблемым. А вы нас спрашиваете, какая у нас программа! Вот наша программа: покончить с существующими законами… Совершить революцию. Ну а потом посмотрим, что делать дальше»[134]. Бароха представляет революцию как испытание, которое необходимо послать обществу, ленивому и медлительному, как препятствие, возведенное с целью вынудить это общество что-то придумать, изобрести, чтобы стиснутое, оно обрело те счастливые идеи, которые приходят в голову только тогда, когда мы попадаем в трудное положение.