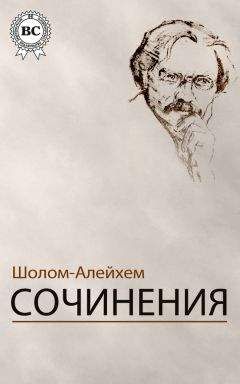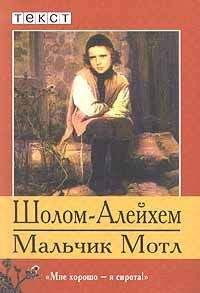Шолом-Алейхем - Сочинения
– Конечно, знаю! – отвечает она.
– Знаешь ли ты, что он – свищик?
– Что значит свищик?
– Пустой орех, – говорю, – что свистит.
– Ошибаешься! – отвечает она. – Арнольд – хороший человек.
– Уж он, – говорю, – у тебя Арнольдом называется, а не Арончик-шарлатан.
– Арнольд, – отвечает она, – не шарлатан, у него сердце доброе. Арнольд живет среди низких людей, которые только и знают, что деньги да деньги!
– Вот как! – говорю. – И ты, Шпринца, уже стала философствовать? Ты тоже возненавидела деньги?
Словом, чувствую по разговору, что дело у них зашло довольно далеко, и спохватился я поздновато – назад не воротишь. Я свою публику знаю! Уж я вам как-то говорил, что дочери Тевье, будь они неладны, ежели прилипнут к человеку, так всем сердцем, всей душой! И подумал я: «Глупец! Всех на свете умнее хочешь быть? Может быть, это от бога? Может быть, так суждено, чтобы именно через эту вот тихоню Шпринцу ты был вознагражден за все удары и муки, что тебе пришлось перенести? Может быть, суждено тебе на старости лет обрести покой и почувствовать, что значит жить на белом свете? Может быть, суждено тебе иметь дочь-миллионщицу? А что? Не пристало тебе? Где это сказано, что Тевье должен всю жизнь бедствовать, таскаться с лошаденкой, доставлять сыр и масло егупецким богачам, заботиться, чтоб им было чего жрать? Кто знает, может быть, мне предначертано свыше, чтобы я на старости лет сотворил что-нибудь хорошее, сделался благотворителем, гостеприимным хозяином, а может быть, и вовсе засел бы с учеными людьми и занялся священными книгами?» Такие вот чудесные, золотые мечты лезут в голову… Как в молитве сказано: «Много дум в сердце человеческом», – или как наши мужики говорят: «Дурень думкою богатеет…» Захожу в дом, отзываю в сторону свою старуху и завожу с ней разговор:
– Что было бы, – говорю, – если бы наша Шпринца, к примеру, стала миллионщицей?
– А что это значит «миллионщица»?
– Миллионщица значит – жена миллионщика!
– А что такое миллионщик?
– Миллионщик, – говорю я, – это человек, у которого есть миллион…
– А сколько это миллион?
– Если ты дура, – говорю я, – и не знаешь, сколько это миллион, так о чем же с тобой разговаривать?
– А кто тебя просит разговаривать? – отвечает она.
И тоже права. Словом, проходит день, приезжаю домой.
– Был Арончик?
– Нет, не был.
Еще день проходит.
– Был парень?
– Нет, не был…
Зайти под каким-нибудь предлогом к вдове мне неудобно: подумает, что Тевье набивается в родственники… Кроме того, я чувствовал, что для нее все это, «аки роза среди терниев», нужно ей это, как пятое колесо телеге. Хотя я не понимаю почему? Потому что у меня нет миллиона? Так ведь зато у меня теперь свойственница – миллионщица! А у нее свойственник – кто? Нищий, бедняк, Тевье-молочник? Кому же зазнаваться – мне или ей? Скажу вам по чистой совести, я стал желать этого брака, и не столько ради самого брака, сколько ради того, чтобы почувствовать себя победителем. «Черта бы их батьке с матерью, егупецким богачам, пускай знают, кто такой Тевье! До сих пор только и слыхать было, что Бродский да Бродский, будто остальные и не люди!»
Размышляю я так однажды по пути из Бойберика домой. Приезжаю, а навстречу мне старуха с радостной вестью: посыльный только-что был из Бойберика от вдовы, чтоб я обязательно сейчас же приехал туда, хотя бы среди ночи. «Все равно, запрягай и поезжай, ты там очень нужен!»
– Чего это им, – говорю, – так приспичило? Что это они так торопятся?
Взглянул я на Шпринцу. Молчит, но глаза ее говорят, – ох и говорят! Никто, как я, так не понимал ее сердца… Я все время боялся, – мало ли что, – а вдруг вся эта история кончится ничем! И наговаривал я на этого Арончика, как мог, – уж он, мол, такой и эдакий. Но я видел, что это как горохом об стенку, – Шпринца тает, как свеча.
Запряг я снова лошаденку и пустился обратно уже к вечеру в Бойберик. А по пути все думаю: «Чего это они меня так опешно вызывают? Насчет зарученья? Или помолвки? Так ведь молодец, кажется, мог бы приехать ко мне? Ведь я все-таки отец невесты». Но тут же рассмеялся: где же это видано на белом свете, чтобы богач к бедняку первым шел? Конец света, что ли, настал? Времена мессии наступили? Как вот эти, нынешние молодчики, меня уговорить хотят, – наступит, мол, скоро время: богач с бедняком сравняются, мое – твое, твое – мое? Все трын-трава! Мир как будто вовсе не так глуп, – а вот не перевелись же еще такие дураки! Эх-хе-хе!»
С такими вот мыслями добрался я до Бойберика и прямо на дачу, к вдове. Привязал лошаденку – где вдова? Нет никакой вдовы! Где парень? Нет никакого парня! Кто же меня звал?
– Я вас звал! – отвечает мне круглый, плотный человечек с выщипанной бородкой и толстой золотой цепочкой на брюшке.
– Кто же вы такой будете? – спрашиваю я.
– Я, – говорит он, – брат вдовы, Арончику дядей прихожусь. Меня депешей вызвали из Екатеринослава, я только-что приехал…
– В таком случае, – говорю, – с приездом вас!
Присаживаюсь, а он, увидев, что я сел, говорит:
– Садитесь!
– Спасибо, – говорю, – я уже сижу. Как же вы поживаете? Как там у вас насчет коснетуции?
На это он мне ничего не ответил, развалился в качалке, руки в карманы, выпятил вперед свое брюшко с цепочкой и обращается ко мне:
– Вас, кажется, зовут Тевье?
– Да, – говорю, – когда меня вызывают к свиткам торы, то провозглашают: «Прийди, реб Тевье, сын Шнеера-Залмана…»
– Послушайте, – начал он, – реб Тевье, что я вам скажу: к чему нам долгие разговоры? Давайте прямо приступим к делу.
– Ну что ж, – отвечаю. – Еще Соломон-мудрый говорил: «Всему свое время». Если нужно говорить о деле, давайте – о деле. Я человек деловой…
– Это, – говорит он, – видать, что вы человек деловой… Вот я и хочу поговорить с вами по-купечески… Хочу, чтобы вы мне сказали, только откровенно, во что нам обойдется эта история? Но только откровенно!
– Если говорить откровенно, – отвечаю, – то я не знаю, о чем вы говорите?
– Реб Тевье, – обращается он ко мне снова, не вынимая рук из карманов. – Я спрашиваю, во что нам обойдется вся эта музыка?
– Это, – отвечаю я, – зависит от того, какую свадьбу вы затеваете. Если вы имеете в виду устроить шикарную свадьбу, как вам пристало, то я не в состоянии.
Уставился он на меня и говорит:
– Не то вы прикидываетесь простачком, не то вы и в самом деле… Хотя по вас не видать, чтобы вы были простачком. Сумели же вы заманить моего племянника в болото… Пригласили будто бы на праздничные блинчики, подставили там красивую девушку, – дочь она вам или не дочь, – в такие тонкости я не вдаюсь… А она ему полюбилась, то есть понравилась… А о том, что он ей понравился, и толковать нечего, – это само собой… Я ничего не говорю, очень может быть, что она честная девушка и принимает, бедняжка, все это всерьез… Я в такие тонкости не вдаюсь… Но вы не должны забывать, – говорит он, – кто вы такой и кто такие мы. Ведь вы же разумный человек, как же вы можете допустить, чтобы молочник Тевье, который доставляет нам сыр и масло, стал нашим родственником? А то, что они друг другу дали слово, – ну что ж, они его друг другу и вернут. Большой беды тут нет. Если нужно сколько-нибудь заплатить за то, что она его освободят от слова, – пожалуйста! Мы ничего против не имеем. Девица, – говорит он, – конечно, не парень, – дочь она вам или не дочь – в такие подробности я не вдаюсь…
«Господи боже ты мой! – думаю я. – Чего от меня хочет этот человек?»
А тот не перестает говорить, так и барабанит у меня над головой. Пусть я не думаю, говорит он, что мне удастся устроить скандал, растрезвонить повсюду, что его племянник сватался к дочери Тевье-молочника. Чтоб я себе выбил из головы, будто сестра его такой человек, из которого можно выкачивать деньги… Добром, говорит, получить у нее несколько рублей – это еще куда ни шло: вроде как пожертвование… Все мы, говорит, люди, надо иной раз оказать помощь человеку…
Вы хотите знать, что я ему ответил? Ничего я, – горе мне, – ему не ответил. Как это говорится: «Прильпе язык мой к гортани моей», – отнялась у меня речь. Поднялся я, повернулся к дверям и – нет меня! Как от пожара удрал, как из тюрьмы!
У меня гудело в голове, мелькало в глазах, в ушах звенели слова: «Откровенно говоря…», «Дочь она вам или не дочь…», «Вдова для выкачивания…», «Вроде как пожертвование…»
Подошел я к своей лошаденке, ткнулся лицом в тележку и – не будете смеяться надо мной? – расплакался. И плакал, и плакал… А когда вдоволь наплакался и, усевшись, выместил на своей несчастной кляче все, что накопилось на душе, – обратился я, как Иов [17], к господу богу с вопросом: «Что ты такого увидел, господи, в старом Тевье? За что ты его ни на минуту не оставляешь в покое? На мне, что ли, свет клином сошелся?»
Приезжаю домой, застаю всю свою команду веселой – не сглазить бы! Ужинают. Шпринцы нет.
– Где Шпринца? – спрашиваю.
А они мне: