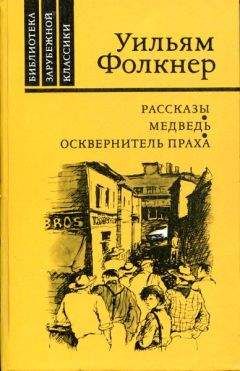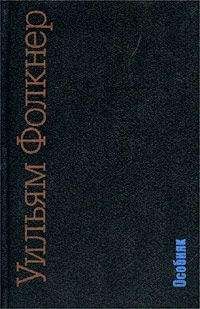Уильям Фолкнер - Свет в августе; Особняк
Грохнуло со страшной силой, но Минк уже ничего не слыхал. Тело его родича в каком-то судорожном, странном, замедленном движении стало валиться вперед и уже тянуло за собой все кресло: ему, Минку, казалось, что гром выстрела — пустяки, но сейчас, когда кресло грохнется об пол, весь Джефферсон проснется. Он отскочил: был миг, когда он хотел сказать, крикнуть себе: «Стой! Стой! Проверь — мертвый он или нет, иначе все пропало!» — но он уже не мог остановиться, он сам не помнил, как увидал другую дверь, в стене за креслом, как эта дверь вдруг оказалась перед ним; все равно, куда она вела, лишь бы вон, а не назад, в комнату. Он бросился к этой двери, крутя и дергая ручку, он тряс ее и дергал, даже когда понял, что дверь заперта, он тряс ее вслепую даже после того, как сзади раздался голос, и тут он отскочил и увидел женщину, стоявшую у входной двери; сначала он подумал: «Значит, она все слышала», — и вдруг понял: ей не надо было ничего слышать, привела ее сюда, на погибель ему, та же сила, которая в одно мгновение могла взорвать его, превратить в прах, изничтожить на месте. Уже некогда было взвести курок, нацелиться на нее, даже если бы у него был второй патрон, и, отскочив от двери, он бросил, швырнул в нее револьвер, и не успел опомниться, как в ту же секунду револьвер очутился у нее в руке, и она уже протягивала ему оружие, говоря крякающим утиным голосом, как говорят глухие:
— Вот. Возьмите. Там шкаф. А к выходу — сюда.
18
— Остановите машину, — сказал Стивенс. Рэтлиф затормозил. Он сидел за рулем, хотя машина принадлежала Стивенсу. Они свернули с шоссе у перекрестка, за лавкой Уорнера, за мельницей, кузней и церковью, составлявшими вместе с кучкой жилых домов и других построек поселок, где уже было совсем темно, хотя часы показывали половину десятого, а позади осталась широкая, ровная плодородная долина, на которую старый Уорнер, — ему было за восемьдесят, волосы поседели, он вдовел двенадцать лет и только года два назад вдруг женился на молоденькой женщине лет двадцати пяти, хотя с ней был обручен или, во всяком случае, влюблен в нее один из его внуков, — держал закладные и векселя, там, где участки еще не принадлежали ему; и теперь они были недалеко от предгорья, где стояли мелкие полуразрушенные фермерские домишки, покосившиеся и убогие, похожие на клочки бумаги меж выветренных складок холмов. Дорога была немощеная, даже без щебня, и впереди, должно быть, становилась совсем непроезжей; уже сейчас в неподвижном свете фар (Рэтлиф остановил машину) она походила на выветрившийся овражек, который поднимался по неровному холму меж тощих трепаных сосен и жидкого кустарника. Солнце прошло экватор и стояло в созвездии Весов; и от остановки движения, от лениво притихшего мотора сильнее ощущалась осень, после мелкого воскресного дождя и ясной изменчивой прохлады, державшейся почти весь понедельник; неровные заросли сосен и мелких дубов были плохой защитой от зимы, от дождя и мороза, отощавшая земля, заросшая сумахом, хурмой и дикой сливой, уже побагровела на холоду, ветви отяжелели от плодов слив, и все ждало заморозков и лая оголодавших гончих, выпущенных на охоту.
— А почему вы думаете, что мы его там найдем, даже если доберемся? — спросил Стивенс.
— А где ж ему быть? — сказал Рэтлиф. — Куда деваться? Вернуться в Парчмен, когда столько хлопот и денег затрачено, чтобы его оттуда вызволить? Куда ему еще идти, как не к себе домой?
— Да нет у него никакого дома, — сказал Стивенс. — Когда это было, два, три года назад, помните, мы приезжали сюда искать того малого…
— Тэрпина, — сказал Рэтлиф.
— …который не явился на призывной пункт, и мы поехали за ним. От дома и тогда уже ничего не оставалось, одна видимость. Кусок крыши, обломки стены, их еще не успели разобрать на топливо. Правда, дорога была лучше.
— Да, — сказал Рэтлиф. — Люди по ней волокли бревна, от этого она и была ровнее, глаже.
— А теперь там, наверно, и стен не осталось.
— Там внизу подпол есть, — сказал Рэтлиф.
— Яма в земле? — сказал Стивенс. — Вроде звериной норы?
— Наверно, он устал, — сказал Рэтлиф. — А ведь ему не то шестьдесят три, не то шестьдесят четыре. Тридцать восемь лет он жил в напряжении, уж не говорю про эти последние — у нас сегодня что? четверг? — последние семь дней. А теперь напряжение пропало, ему нечем держаться. Вы только представьте себе, что ждали тридцать восемь лет, чтобы сделать то, что хочется, и наконец сделали. У вас тоже ничего не осталось бы. Так что ему теперь только и нужно лечь, полежать где-нибудь в темноте, в тишине, хоть недолго.
— Надо бы ему подумать об этом в прошлый четверг, — сказал Стивенс. — А теперь уже поздно.
— Так мы же затем сюда и приехали, верно? — сказал Рэтлиф.
— Ну, ладно, — сказал Стивенс. — Поезжайте. — Но Рэтлиф вместо этого совсем выключил мотор. Теперь они еще яснее ощутили, осознали перемену погоды, конец лета. Какие-то птицы еще остались, но вечерний воздух уже не звенел трескучей летней разноголосицей ночных насекомых. Только кузнечики еще стрекотали в густом кустарнике и в стерне скошенных лугов, где днем отовсюду внезапно выскакивали пыльно-серые кобылки, рассыпаясь куда попало. И тут Стивенс почувствовал, что его ждет, о чем сейчас заговорит Рэтлиф.
— Значит, по-вашему, она действительно не имела понятия, что сделает этот маленький гаденыш, как только его выпустят, — сказал Рэтлиф.
— Ну конечно, нет! — сказал Стивенс торопливо, слишком торопливо, слишком запоздало. — Поезжайте!
Но Рэтлиф не шевельнулся. Стивенс заметил, что он не снял руки с ключа, так что сам Стивенс не мог бы завести мотор.
— Наверно, она сегодня вечером остановится в Мемфисе, — сказал Рэтлиф. — Теперь у нее есть этот роскошный автомобиль, новехонький к тому же.
Стивенс все помнил. А ему хотелось забыть. Она сама все рассказала — или так ему показалось — сегодня утром, после того как объяснила, на кого сделать дарственную: она сказала, что не желает брать автомобиль своего так называемого отца и уже заказала себе в Мемфисе новую машину, которая будет доставлена сразу после похорон, чтобы ей тут же можно было уехать, а дарственную он может принести ей на подпись домой, когда они будут прощаться или говорить то, что им — ему и ей — останется сказать на прощание.
Похороны были пышные: выдающийся банкир и финансист, погибший во цвете если не лет, то богатства от револьверной пули, но не от такой револьверной пули, как полагалось банкиру, потому что банкир, умирающий от револьверной пули у себя в спальне, в девять часов вечера, должен был бы перед этим пожелать спокойной ночи ревизору банка, присланному из штата или из центра, а может быть, и двум ревизорам из этих двух мест. Он (покойник) не представлял никаких организаций, ни общественных, ни военных, ни гражданских: только финансовые. И не имел никакого отношения к экономике — к скотоводству, хлопку, — словом, к тому, на чем выросли и чем жили штат Миссисипи и Йокнапатофский округ, — а исключительно к капиталу. Правда, он был прихожанином джефферсонской церкви, что явствовало из всяческих украшений и пристроек к церковному зданию, но его отношения с церковью были не служением, не истинным союзом, даже не надеждой на отпущение грехов, а просто временным перемирием меж двумя непримиримыми державами.
И, однако, на похороны явился не только весь округ, но и весь штат. Он (Стивенс) тоже стоял, как непосредственный участник представления, по настоянию дочери усопшего (sic[71]) в первом ряду около нее. Он, Линда, ее дядя Джоди, у которого на длинном, как у отца, костяке наросло сто фунтов живота и подбородков, и тут же — да, вот именно — Уоллстрит Сноупс, Уоллстрит-Паника Сноупс, который не только никогда не вел себя, как Сноупс, но даже с виду не похож был на Сноупсов: высокий темноволосый человек, с неправдоподобно нежными детскими голубыми, как барвинок, глазами, который начал карьеру мальчишкой-рассыльным в бакалейной лавчонке, чтобы обеспечить себя и своего младшего брата, Адмирала Дьюи, до окончания школы, а потом открыл в Джефферсоне оптовую бакалейную торговлю, снабжавшую всю округу, и, наконец, переехав с семьей в Мемфис, стал владельцем целой сети оптовых бакалейных складов, снабжавших половину штата Миссисипи, да и Теннесси и Арканзас тоже; и все стояли перед стыдливо замаскированной ямой, рядом с другой могилой, над которой не муж (он только сделал заказ и оплатил его), но сам Стивенс воздвиг возмутительную мраморную ложь, ценой которой была куплена свобода Линды девятнадцать лет назад. И ему, именно ему, приходилось теперь воздвигать вторую ложь, уже предопределенную той, первой; они — Линда и он — уже обсудили это сегодня утром.
— Нет. Ничего не надо, — сказала она.
— «Надо», — написал он.
— Нет, — сказала она. Он только приподнял табличку и показал ей написанное слово; не мог же он написать: «Надо ради тебя». Впрочем, это и не понадобилось.