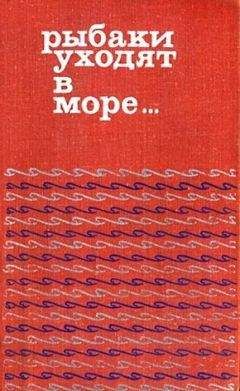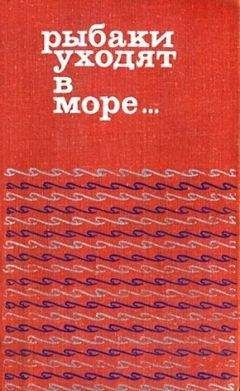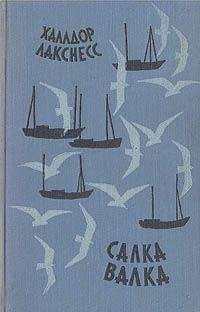Халлдор Лакснесс - Самостоятельные люди. Исландский колокол
— А как поживают исландцы, — спросила мадам, — после того, как господь бог послал им милостивую и благословенную чуму?
— О, они издыхали, как голодные овцы, и отправлялись к черту, — сказал Йоун Хреггвидссон.
— Им следовало бы пустить кровь, — сказала женщина.
— О, кровь давно уж вытекла из этих бедняков, добрая женщина, — сказал Йоун Хреггвидссон. — С той поры как они убили моего родича Гуннара из Хлидаренди, крови в Исландии нет.
— Кто его убил?
Он отвернулся в сторону и почесал голову.
— Я не хочу рассказывать эту историю в других приходах, — сказал он. — Если человек умер, так он умер и отправился к черту. Нечего по нем горевать. Но Гуннар из Хлидаренди всю свою жизнь был человеком чести.
— Вы, исландцы, считаете, что мы, датчане, убиваем вас всех, — сказала женщина. — Но разрешите спросить, кто хотел убить моего мужа магистра Арнэуса, когда он приехал туда, чтобы помочь вам. Не датчане, а сами исландцы.
— Да, вот видите, что это за народ, — сказал Йоун Хреггвидссон. — Сначала я украл леску, потом, когда мне надоел мой сын, я его убил. Кое-кто даже говорит, что я утопил в луже королевского чиновника.
— Хотя мой муж и исландец, он такой же добрый христианин как любой датчанин, — сказала женщина.
— Да, ему же хуже, — ответил Йоун Хреггвидссон. — Он из кожи вон лез, чтобы спасти исландцев — кого от веревки, кого от топора или от того, чтобы есть датских червей. Я-то считаю, что эти черви достаточно хороши для них и даже слишком хороши, если они не хотят их есть. А что он получил за это? Позор и дерьмо. Нет, женщина, не думай, что я сочувствую исландцам. Сам я всегда старался беречь лески для рыбной ловли. Это ведь самое главное. В Иннрахольмсланде я наперекор местным жителям стал ловить рыбу с лодки, с шестивесельной, по три весла с каждой стороны, женщина, одно, два, три, четыре, пять, шесть. Я назвал место Хретбуггья, понимаешь, женщина? По-датски Реетбюгге. Это потому, что на том берегу свирепствует зюйд-вест. На Скаги, моя добрая женщина, понимаешь? Акранес, Рейн — у подножья горы, перед Иннрахольмсландом, которым владеют иннрахольмцы. Какие же еще новости я могу рассказать? Да, дважды у меня родились дочери. Первая, большеглазая, лежала в гробу, когда я пришел с войны. Вторая как будто жива, чума ее не убила. Она уже начала иногда по ночам спать с парнями, а когда я уезжал, стояла в дверях. Но она не уследила за собакой, и та бежала за мной до Улафсвика. Это Христов хутор. Его владелец Иисус Христос, понимаешь, женщина?
— Ты очень хорошо говоришь, что владелец двора Иисус Христос, — сказала женщина. — Это показывает, что в сердце своем ты раскаиваешься. Тому, кто раскаивается, простятся его грехи.
— Грехи, — вспыхнул Йоун Хреггвидссон. — Я никогда не грешил. Я честный преступник.
— Бог да простит всех, кто признает себя преступником, — сказала женщина. — Кухарка мне тоже как-то говорила, что ты ни разу не взял ни одного эре, когда тебя посылали на рынок. Поэтому я и говорю с тобой, как с честным человеком, хотя ты и исландец. Что-то я еще хотела сказать? Да, кстати, что это за шлюха вавилонская приехала из Исландии в Копенгаген?
Йоун Хреггвидссон несколько глуповато посмотрел в сторону, пытаясь отгадать загадку, но не мог найти связи с тем, о чем шел разговор прежде, и отказался от этой попытки.
— Вавилонская, — сказал он. — Ну вы мне сделали мат в два хода, мадам. Я кончил врать.
— Ах, уж эта женщина из Исландии! — сказала она. — По сравнению с ней убийство моего мужа было бы пустяком. Да, исландцам было известно, что она хуже убийства, и они продолжали связывать его имя с ее именем, пока сам король не поверил этому и не приказал судить этого доброго христианина, который мог бы быть датчанином или даже немцем. Это та самая женщина. Что она за баба? И как мог мой супруг, этот добрый христианин, проводящий все ночи за книгами, даже подумать о том, чтобы бегать за ней?
Йоун Хреггвидссон почесал себя во всех вероятных и невероятных местах, пытаясь раскумекать это дело, и наконец предпринял робкую попытку ответить.
— Хотя в моем роду по линии матери давно водились книги, я никогда не прочел ни одной из них, — сказал он. — Да и писать я могу только печатными буквами. Но я не упрекаю того, кто захочет поменять книгу на женщину, хотя бы он и сидел и изучал книги по ночам, ибо нет двух других вещей, которые изучались бы столь одинаково, как эти обе.
— Ничто не может извинить неверность исландского мужа датской жене, — сказала она. — Но, к счастью, как говорит мой супруг, то, чего нельзя доказать, неверно, и, значит, это неверно.
— Да, что касается меня, то, когда я был в Роттердаме, — это в Голландии, откуда приходят рыбаки на шхунах, — то я однажды встретился ночью с пасторской дочкой. Ну, что тут скажешь? А дома в Исландии у меня уродливая и скучная жена…
— Если ты намекаешь на то, что я уродлива и скучна, чтобы оправдать моего мужа, который спит с вавилонской шлюхой, то я должна тебе сказать, Регвидсен, что, хотя асессор Арнэус считает себя мужчиной, он не приведет в дом преступника из Бремерхольмской крепости без моего на то разрешения. И еще я скажу тебе, исландцу, от которого воняет акулой, ворванью и всем исландским дерьмом так, что вся лаванда Дании ничто в сравнении с этой вонью и только чуть-чуть благоухает: мой первый муж, а он был настоящим мужчиной, хотя его и не приглашали к королевскому столу, говорил, что я очень даже гожусь для брака. А что было бы с тем, кто теперь изображает моего мужа, не будь у меня денег и дома, коляски и лошадей? У него не было бы ни одной книги. Поэтому я имею полное право знать, что за женщина, говорят, прибыла из Исландии в Копенгаген?
— Она стройна, — сказал Йоун Хреггвидссон.
— Стройна? — спросила женщина.
— Она почти невесома.
— Как это — невесома? — спросила женщина.
Он подмигнул одним глазом и посмотрел на женщину.
— Как тростник, самое гибкое и тонкое из всех растений.
— Не хочешь ли ты сказать, что я толста? — сказала женщина. — Или она должна стать розгой для меня?
— Моя благородная фру хозяйка и баронесса не должна думать, что у исландского каторжника больше ума, чем есть на самом деле, и не должна сердиться на его глупую болтовню. Если бы у этого бедняка был рот, — а разве можно назвать ртом то, что неоднократно произносило вероломные клятвы перед богом и людьми, — то он бы поцеловал ваши высокородные ноги.
— Что за ерунду ты болтал о тростнике? — спросила женщина.
— Я только говорил о стебле, который не ломается, когда его гнешь, а отпустишь руку, он снова поднимается — тонкий и стройный, как и прежде.
— Я приказываю тебе отвечать, — сказала женщина.
— Лучше спросить Йоуна из Гриндавика, — сказал Йоун Хреггвидссон, — он ученый и мудрый человек.
— Сумасшедший Йон Гриндевиген, — сказала она. — Таких людей, которых исландцы называют учеными и мудрыми, здесь в Дании зовут деревенскими идиотами, и закон запрещает им выезжать из своих местечек.
— Тогда Йоуна Мартейнссона, — сказал Йоун Хреггвидссон. — Он знает женщин и в Исландии и в Дании, потому что он спал с дочерью епископа. А меня даже не считают человеком.
— Мой дом — христианский дом, куда воры, крадущие кур, не смеют сунуть нос, — заявила хозяйка. — И если ты без обиняков не расскажешь мне все об этой женщине, ты сам пойдешь к Мартинсену и пусть он о тебе заботится.
— Я знаю об этой женщине только то, что она развязала меня, и спасла от топора у реки Эхсарау, и привязала к камню, к которому привязывают лошадей в Улафсвике.
— Есть у нее деньги? Как она одета?
— Ты сказала — деньги. У нее больше денег, чем у любой женщины в Дании. Ей принадлежат все деньги в Исландии. У нее серебро и золото, накопленное веками. Ей принадлежат все крупные поместья и хутора Исландии, независимо от того, удастся ли ей украсть их у короля и вернуть себе или нет; леса и реки, в которых водятся лососи; земли на берегу моря, поросшие лесами, — одного большого дерева оттуда достаточно, чтобы построить Константинополь, если только найдется пила; заливные луга и болота, где растет тростник; земли с обильными рыбой озерами и пастбищами вплоть до самых глетчеров; острова на бездонном море с бесчисленным множеством птиц, где ходишь по колено в пуху; птичьи скалы, отвесно спускающиеся в море, где можно в Иванову ночь услышать, как ругается веселый птицелов, повисший на веревке на высоте шестидесяти футов. И все это только самая малость из ее владений, я никогда не смог бы перечислить. Но богаче всего она все же была в тот день, когда суд лишил ее всего и Йоун Хреггвидссон бросил ей, сидевшей у дороги, далер. Как она одета? На ней золотой пояс, на котором горит красное пламя, моя добрая женщина. Она одета так, как всегда были одеты женщины-аульвы в Исландии. Она пришла в синем платье, шитом золотом и серебром, туда, где лежал в цепях убийца. И все же лучше всего она была одета в тот день, когда ее обрядили в грубые чулки и платье нищенок и шлюх, и она смотрела на Йоуна Хреггвидссона своими синими глазами, которые будут владычествовать в Исландии и тогда, когда весь остальной мир погибнет от своих злодеяний.