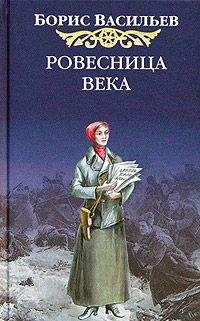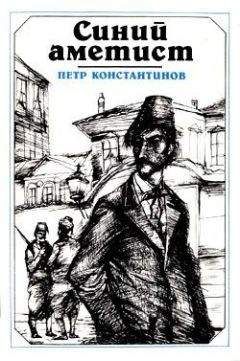Борис Васильев - Были и небыли
— Олексин, вы? — Беневоленский в наброшенной на плечи шинели опустился рядом. — Искал вас.
— Ранены? — спросил поручик, увидев перебинтованную руку.
— Пуля. По счастью, в мякоть.
— Это когда вас на бруствер энтузиазмом вынесло?
— Нет, позже, в атаке, — Беневоленский усмехнулся. — Никогда не переживал такого подъема, Олексин, такого торжества духа, что ли.
— Ступайте-ка к доктору Конькову, господин энтузиаст.
— Зачем? Я еще могу стрелять и перевязывать — разве этого мало?
— Я хочу сохранить жениха для сестры, Прохоров.
Аверьян Леонидович помолчал, в темноте искоса поглядывая на грязное, осунувшееся лицо поручика. Потом сказал тихо:
— Я не хочу более обманывать вас, Гавриил Иванович. Я никакой не Прохоров, и зовут меня совсем не Аркадием Петровичем. Я — Аверьян Леонидович Беневоленский, сын священника села Борок, что неподалеку от Высокого. Нет, нет, я не вор, я не подделывал векселей и никого не убивал: за мной охотились, вот и пришлось сменить паспорт.
— Кто за вами охотился? — устало спросил поручик. — Если признаваться, так до конца.
— Вы правы, Олексин, — Беневоленский опять помолчал, все еще не решаясь. — Что вы знаете о народниках? Я имею в виду не говорунов типа господина Лаврова, а настоящих революционеров.
— Я не имею чести быть знакомым ни с господином Лавровым, ни с кем-либо из настоящих революционеров, — сказал Гавриил. — Впрочем, в Сербии под моей командой служили трое парижан-коммунаров, и это не мешало им быть отважными солдатами.
— Наша деятельность требует мужества, Олексин.
— Ваша?
— Да. Я разделяю мысли Ткачева с существенными, правда, поправками, но это — уже теория.
— Надеюсь, вы не втянули Марию в свою мужественную деятельность?
Он спросил с ворчливой улыбкой. Он никогда не интересовался никакими учениями, относясь к ним с полным равнодушием, знал, что Василий увлекается революционной пропагандой, предполагал, что Федор пойдет той же дорогой, но никогда никого не осуждал. Каждый человек волен поступать по долгу совести — этому учил отец, и все Олексины воспринимали свободомыслие как нечто само собой разумеющееся.
— Нет, — вполне серьезно ответил Беневоленский. — За подобную деятельность родное отечество сулит в лучшем случае каторгу, а я слишком дорожу Машей.
— Это — ваше дело. Только не занимайтесь пропагаторством в полку. Уж пожалуйста.
— Зачем? — улыбнулся Аверьян Леонидович. — Здесь эту работу неплохо выполняют турки. Разве сегодняшний день не знамение завтрашних битв за свободу? Я воспринял его именно так, Олексин. Когда русский искренне считает болгарина братом, а болгарин, не раздумывая, жертвует за русского жизнью, когда простые солдаты грудью заслоняют офицеров, а офицер отдает нижнему чину последний глоток воды, война выходит из тех берегов, в которых ее хотело бы видеть самодержавие. На Шипке произошло чудо, Олексин: царская расчетливая бойня превратилась в войну народную по воле самих народов. Вы почувствовали, сколько сил, мужества, самопожертвования и отваги таится в простых людях, когда они воюют не во исполнение царской воли, а по зову собственных сердец?
— Для вашего возраста вы слишком восторженны. Это пройдет, просто сказывается первый бой.
— Отнюдь, Олексин, я скорее сдержан, чем горяч. А некоторая приподнятость речи объясняется открытием: я, подобно Архимеду, все время хочу кричать «Эврика!».
— Открыли, что рядовые спасают офицеров, а офицеры жалеют подчиненных? Мало для того, чтобы кричать «Эврика!», Беневоленский.
— Нет, я открыл нечто большее. Мне пока трудно объяснить, надо многое передумать. А суть в том, что все наши споры, теории да и вся наша практика вдруг представились мне ложными. Заговоры Бланки, топоры нечаевцев, бунты Бакунина — детская игра по сравнению с той силой, которую я ощутил сегодня. Эта сила и только эта сила правит историей, Олексин, а совсем не критически мыслящие личности Лаврова и даже не герои Ткачева.
— Послушайте, Беневоленский, не пора ли нам отдохнуть? — Гавриил деланно зевнул. — Завтра у нас не диспут о том, кто творит историю, а — история. Дама довольно кровавая и беспощадная. Тем паче, что я все равно ничего не понимаю.
— Не понимаете, так поймете, — с неожиданной резкостью сказал Аверьян Леонидович. — Вы решительнее Василия Ивановича и умнее блаженного Федора, и вам совсем не все равно, за что воевать.
— За что же, по-вашему, я воюю?
— За свободу, Гавриил Иванович. Пока — за чужую.
— Свобода — понятие относительное, Беневоленский, поскольку не может быть свободой для всех. А вот справедливость — всегда справедливость. Вы давеча обвинили нашу армию в несправедливости к мирным болгарам, которых она вынуждена была бросить на произвол судьбы, и, признаюсь, это зацепило меня. А свобода… — он усмехнулся. — Каждый понимает ее по-своему, а на всех не угодишь.
— Справедливость тоже каждый понимает по-своему.
— Э, нет! Справедливость связана с честью человека: если человек дорожит своей честью, он будет отстаивать справедливость, чего бы это ему ни стоило. Только бесчестные люди способны мириться с несправедливостью.
— Вы идеалист, Олексин.
— А вы?
— Я? — Беневоленский пожал плечами. — Позавчера я бы ответил, не задумываясь, а сегодня… Сегодня промолчу. Если меня не убьют, то… — он неожиданно замолчал.
— То вы женитесь на моей сестре, — проворчал Гавриил. — Право, давайте-ка подремлем хоть часок.
— Если меня не убьют, я попробую пересмотреть свои идеи заново, — словно не слыша, продолжил Аверьян Леонидович. — Террор, бунты, упование на крестьянскую стихию — все это не то. Революционер не спичка, которую подносят к фитилю… Да, вы правы, надо поспать. Дай нам бог продолжить этот разговор.
— Дай бог, чтоб мне хватило патронов на завтра, — хмуро сказал Гавриил, расстилая шинель на остывшей земле.
5
За ночь турки подтянули артиллерию и весь следующий день слали на русские позиции снаряд за снарядом. К счастью, батареи их были расположены далеко, и стрельба велась скорее в расчете на психологический эффект.
— Демонстрируют, — вздохнул Столетов, прибыв на южную позицию вместе с генералом Кренке.
— Обходят, — убежденно сказал Кренке. — Вчера их лазутчики прощупали наш правый фланг, а сегодня Сулейман перебрасывает туда таборы. Господи, как же это мы лес вырубить не успели?..
Однако в течение всего дня противник ни разу не побеспокоил защитников справа, где оборону в основном держали брянцы. К вечеру прекратились атаки, стихла канонада, и только черкесы продолжали вести беспокоящий ружейный огонь до темноты. Но к этому уже привыкли; болгарские жители опять доставили воду, увезли в Габрово тяжелораненых, а войска впервые за двое суток получили вареное мясо.
Зато утро 11 августа встретило защитников полной неожиданностью: на Тырсовой горе противник успел возвести батарею, втащив пушки и снаряды на канатах. Девять черных жерл глядело на шипкинскую позицию из девяти амбразур.
— Гляди, девятиглазая!.. — ахнул пожилой орловец.
С его легкой руки это название так и закрепилось за батареей, почти сразу же открывшей огонь: с Тырсовой горы турецким артиллеристам была видна вся система русской обороны. Стальная батарея завязала было дуэль с «девятиглазой», развалила две амбразуры, но снарядов было мало, и огонь пришлось прекратить. Турки еще не начинали атак, проклятая «девятиглазая» била без перерыва, а черкесы вновь, открыли бешеную стрельбу. Все пространство, занятое защитниками перевала, простреливалось насквозь, что не помешало, впрочем, ординарцу Столетова Берковскому на казачьем коне проскакать вдоль всей позиции:
— Помощь идет! К полудню будет помощь, держитесь!
В то время эта обещанная помощь, еле двигая ногами, еще только втягивалась в Габрово после безостановочного суточного перехода.
— Немедля выступить на перевал, — сказал Радецкий, выслушав рапорт командира.
— Это невозможно, ваше превосходительство, — вздохнул Цвецинский. — Стрелки шли всю ночь.
— Столетов третий день держит Сулеймана! — побагровев, закричал Радецкий. — Вы — единственная его надежда. Единственная!
— Я понимаю и все же настоятельно прошу дать стрелкам шесть часов отдыха.
— Четыре! — отрезал Радецкий: он был грубоват даже с генералами. — Ровно двести сорок минут!
Турецкие разведчики действительно прощупали правый фланг обороны, но Сулейман не стал дробить своих сил. Он направил туда свежие таборы подошедшего Реуфа-паши, а сильному отряду Весселя-паши приказал окружить русских с севера, перерезав дорогу на Габрово. Именно этот день, 11 августа, турецкий полководец избрал днем генерального штурма и настолько был уверен в победе, что еще до атаки направил донесение султану о взятии Шипкинского перевала. В половине пятого утра началась мощная артиллерийская подготовка. Шипкинская позиция была буквально засыпана снарядами, противник вел огонь с трех сторон одновременно, грохот разрывов сливался в единый безостановочный гром, солнце померкло в дыму и пыли. Русские батареи на огонь не отвечали. В семь утра оборвалась канонада, и турки ринулись на приступ ложементов правого фланга. Через несколько минут они начали атаки и по всему фронту.