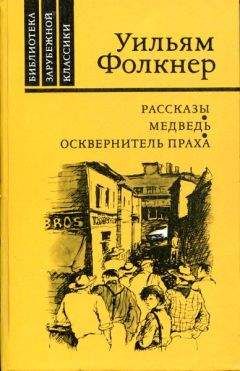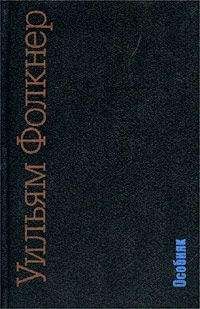Уильям Фолкнер - Свет в августе; Особняк
— Значит, его, как видно, в Мемфисе нет, — сказал шериф. — Сколько дней уже прошло?
— Считайте с четверга.
— И на Французовой Балке его тоже нет.
— Откуда вы знаете?
— Я вчера туда ездил, смотрел, что и как.
— Значит, вы мне все-таки поверили, — сказал Стивенс.
— А я за поездки получаю суточные, — сказал шериф. — Погода вчера была хорошая, как раз для загородной прогулки. Значит, у него в распоряжении было четыре дня, а проехать ему всего сто миль. В Мемфисе его как будто нет. Я точно знаю, что во Французовой Балке его не было. И, как вы говорите, мистер Сноупс знает, что и в Джефферсоне его нет. Может, он помер. — И вдруг, когда другой человек высказал эту мысль, выговорил ее вслух, Стивенс понял, что сам никогда в это не верил, и уже не слушал, что говорит шериф: — Такая мелкая гадина, змея, у него и друзей-то никаких никогда в жизни не было: там, в поселке, никто и не знает, что стало с его женой, с обеими дочками, куда они исчезли. Сидеть под замком тридцать восемь лет, а потом тебя выкинули, как кошку на ночь, деваться некуда, никому ты не нужен. Может, он не выдержал свободы. Может, свобода его и убила. Так бывает, я сам видел.
— Да, — сказал Стивенс, — наверно, вы правы, — а сам спокойно думал: Мы его не остановим. Мы его не можем остановить — даже всем скопом, вместе с мемфисской полицией, с кем угодно. Может быть, даже гремучей змее, если только судьба за нее, может быть, ей никакой удачи не нужно, а уж друзей и подавно. Вслух он сказал: — Но пока что мы ничего не знаем. Нельзя на это рассчитывать.
— Понимаю, — сказал шериф. — Я вчера же выдал полномочия двум людям в уорнеровской лавке, они говорят, что помнят его и сразу узнают. Могу дать охрану мистеру Сноупсу, пусть сопровождает его в банк и домой. Но, будь я проклят, мы же не знаем, за кем следить, когда, где? Не могу же я поставить охрану в дом к человеку, пока он сам не попросит, верно? А как его дочка, миссис Коль? Может быть, она что-нибудь сделает? Или вы все еще не хотите, чтобы она знала?
— Нет. Дайте мне слово! — сказал Стивенс.
— Хорошо, — сказал шериф. — Полагаю, что ваш приятель из Джексона сообщит вам, как только мемфисская полиция хоть что-нибудь разведает.
— Да, — сказал Стивенс. Но до среды никакого звонка оттуда не было. А Рэтлиф позвонил ему во вторник вечером, после десяти, и сообщил о том, что случилось, а утром, по дороге на службу, он проехал мимо банка, где не подняли опущенные шторы, и, стоя у своего стола с телефонной трубкой в руках, он видел в окно мрачные черно-бело-фиолетовые извивы тюля, лент и восковых цветов, прикрепленных над запертой входной дверью.
— Он таки нашел револьвер за десять долларов, — сказал голос его приятеля. — В понедельник утром. Ссудная лавчонка торговала, в сущности, без лицензии, оттого полиция чуть не пропустила ее. Но при некотором… м-мм… давлении владелец вспомнил эту сделку. И он сказал, что беспокоиться нечего, что этот револьвер только по видимости может считаться револьвером и что не хватит всех трех патронов, которые ему дали в придачу, чтобы этот пистолет сработал.
— Ха, — сказал Стивенс невесело. — Передайте от меня владельцу лавки, что он недооценивает свой товар. Револьвер вчера был здесь. И сработал.
17
В понедельник часам к одиннадцати утра в кабине грузовика, перевозившего скот, он добрался до развилки. Грузовик шел на восток, к Алабаме, но даже если бы он повернул на юг и проехал через Джефферсон, Минк все равно слез бы у переезда. А если бы машина была из Йокнапатофы и вел ее кто-нибудь из жителей округа или Джефферсона, он вообще и не сел бы в нее никогда.
Пока он не вышел из лавки с револьвером в кармане, все казалось простым, надо было разрешить только одну задачу — достать револьвер; после этого только расстояние отделяло его от той минуты, когда он подойдет к человеку, который знал, что его отправляют на каторгу, и не только пальцем не пошевелил, но даже не нашел в себе мужества честно сказать «НЕТ» в ответ на истошный крик о помощи, на кровный призыв кровного родича, — подойдет, скажет ему: «Погляди на меня, Флем», — и убьет его.
Но теперь надо было, как он говорил, «пошевелить мозгами». Ему казалось, что он столкнулся с какими-то непреодолимыми препятствиями. Он находился в тридцати милях от Джефферсона, у себя дома, и тут жили такие же люди, как везде на нагорьях северного Миссисипи, хотя бы здесь и проходила граница другого округа, и ему казалось, что с этой минуты каждый встречный, каждый, кто его увидит, даже не узнав его, не вспомнив его лицо, его имя, все равно поймет, кто он такой, куда идет и что намерен делать. И тут же сразу, следом, немедленно вспыхнула мысль — что это физически невозможно, но все же рисковать он не решался; за тридцать восемь лет, что он был заперт в Парчмене, в нем отмерла, разрушилась какая-то способность, несомненно обостренная в людях, живших на свободе, и они его узнают, они догадаются, поймут, кто он такой, а он даже не заметит, как это случится. «Наверно, все оттого, что меня тут долго не было, — думал он. — Наверно, теперь надо даже и говорить учиться заново».
Он подразумевал не «говорить», а «думать». Он шел по шоссе, теперь оно было покрыто асфальтом, расчерчено прямыми линиями, вдоль которых неслись машины, а он помнил, как тут тянулся извилистый грязный проселок, где мулы и телеги или в редких случаях верховые лошади медленно тряслись по колеям и колдобинам, и знал, что ему невозможно изменить свою внешность — переменить черты лица, выражение, перекроить знакомую местную одежду или походку; на миг ему пришла в голову — и тут же была отброшена — отчаянная и дикая мысль: а что, если при виде легковой машины или грузовика поворачивать назад, чтобы создать впечатление, будто идешь в другую сторону. Теперь ему надо было изменить весь ход своих мыслей, как меняешь цветную лампочку в фонаре, хотя сам фонарь не меняется; пока он шел, он должен был твердо и неизменно думать, что он — кто-то другой, что он никогда и не слыхал про фамилию Сноупс и про город Джефферсон и даже не подозревает, что по этой дороге он непременно попадет туда; он должен был думать, будто идет совсем в другое место, с другой целью, куда-то за сто с лишним миль, и мысленно он уже там, только его тело, его шагающие ноги случайно проходят именно этот участок шоссе.
И еще надо было найти кого-то, с кем можно было бы поговорить, не вызывая подозрений, и не для того, чтобы собрать сведения, а чтобы подтвердить их. До той минуты, когда он наконец вышел из Парчмена на свободу и ощутил, что цель, к которой он терпеливо стремился тридцать восемь лет, теперь фактически достигнута, он считал, что собрал все нужные сведения из тех скопившихся за десяток лет слухов, которые, разумеется, не каждый день и даже не каждый год, проникали в Парчмен: как и где живет его родич, как проводит время, какие у него привычки, когда и куда он уходит и откуда приходит, кто живет с ним в доме, кто его окружает. Но теперь, когда долгожданный миг почти наступил, сведения могли оказаться недостаточными. Они могли оказаться и совершенно неправильными, неверными; и снова он подумал: «А все оттого, что меня тут так долго не было, все оттого, что мне пришлось сидеть в таком месте», — как будто ему пришлось пробыть тридцать восемь лет не только вне мира, но и вне жизни, так что даже события, прежде чем он узнавал о них, уже переставали быть правдой и только тогда проникали к нему за тюремные стены; и за этими стенами они становились per se[70] враждебными, и предательскими, и опасными для него, если только он попробует их использовать, понадеяться на них, довериться им.
И, наконец, этот револьвер. Дорога опустела, с обеих сторон ее обступил густой лес, ни звука, ни дома, ни души вокруг, и он достал револьвер и посмотрел на него почти что с отчаянием. И утром, в лавке, он не очень походил на револьвер, а тут, в солнечной сельской послеобеденной тишине, он вообще ни на что не был похож, скорее всего он снова напомнил ему, как и в первый миг, ископаемую ящерицу. Но ему надо было проверить этот револьвер, истратить один из трех патронов, просто чтобы посмотреть, будет ли он стрелять, и на минуту, на секунду что-то подтолкнуло его память. «Должен выстрелить, — подумал он. — Что ж ему еще делать. Старый Хозяин только наказывает, а шуток Он не шутит».
К тому же он проголодался. Он ничего не ел после той пачки печенья рано утром. Оставалось еще немного денег, и он уже прошел две бензозаправочные станции с лавками. Но он был на родине, он не решился остановиться в лавке и купить сыру с галетами, хотя у него хватило бы денег. Тут он вспомнил, что предстоит где-то провести ночь. По солнцу сейчас было не позже трех; до завтра он никак не мог попасть в Джефферсон, так что дело придется отложить до завтрашнего вечера, поэтому он почти что инстинктивно свернул с шоссе на проселок — он и сам не мог бы сказать, когда стал замечать на придорожном бурьяне и на колючках клочки хлопка, повыдерганные из проезжавших фургонов, да и дорога была ему знакома по тем давнишним свободным годам, прожитым на арендованной ферме: негритянская дорога, изъезженная колесами, отмеченная клочками хлопка, но немощеная, даже неукатанная, потому что у людей, живших вдоль этой дороги, не было ни права голоса, чтобы заставить, ни денег, чтобы побудить дорожного инспектора участка сделать что-то с их дорогой, а не просто разравнивать и размечать ее дважды в год.