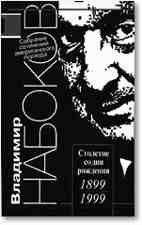Владимир Набоков - Прзрачные вещи
За дверью тявкнула собака: признак, сказал он себе, постоянного постояльца. И все же с собой он унес приятное ощущение, что сумел воскресить важный кусочек вот этого, частного прошлого.
Затем он спустился вниз и попросил красавицу-консьержку позвонить в Стрезу, в гостиницу, и узнать могут ли там дня на два сдать ему номер, в котором восемь лет назад останавливались мистер и миссис Хью Персон. Она называлась, сказал он, как-то наподобие "Бью Ромео". Девушка повторила название в его истинном виде и сказала, что на это уйдет несколько минут. Он подождет в гостиной.
В гостиной сидели лишь двое: женщина в дальнем углу, она закусывала (ресторан оказался закрыт, там еще не прибрали после фарсовой драки), и швейцарский делец, листавший старинный номер американского журнала (кстати сказать, брошенного тут Хью тому восемь лет, – впрочем, эту линию жизни никто не исследовал). Стол по соседству с швейцарцем покрывали гостиничные брошюрки и относительно свежая периодика. Локоть дельца покоился на номере "Transatlantic". Хью потянул журнал, и швейцарский господин едва не выпрыгнул из кресла. Взаимные извинения расцвели разговором. Английский язык мсье Уайльда во многом походил на английский Арманды – и грамматикой, и интонациями. Его сверх всякой меры поразила статья в "Transatlantic" (на минуту отняв номер у Хью, он облизал большой палец, отыскал нужное место и, постукивая по странице ногтями, вернул журнал открытым на возмутительной статье).
"Тут один рассказывает про человека, который убил свою супругу лет восемь назад и..."
Консьержка, чью стойку и грудь он видел в миниатюре с места, на котором сидел, издали махала ему. Вырвавшись из загончика, она затрусила в сторону Хью:
"Не отвечает, – сказала она, – хотите, чтобы я продолжала?"
"Да-да, – ответил Хью, вставая и стукаясь о кого-то (о женщину, выходившую из гостиной, обернув в бумажную салфетку оставшееся от окорока сало). – Да. Ох, простите. Да, непременно. Позвоните в справочную или еще куда."
Так вот, лет восемь назад убийце дали пожизненный срок (был он дан, в старинном значеньи, и Персону, но Персон растранжирил его, растранжирил в болезненном сне!), а теперь его вдруг взяли и выпустили, потому что он, видите ли, вел себя образцово и даже научил сокамерников шахматам и кункену, разговорному эсперанто (он заядлый эсперантист), наилучшим способам выпекания тыквенного пирога (он еще и кондитер), знакам зодиака и прочее, и прочее. Некоторым людям, к сожалению, что кандалы, что кандела – это такая единица силы света в спектроскопии – им все едино.
Страшное дело, продолжал швейцарский господин, применяя выражение, прихваченное Армандой у Джулии (ныне леди N.), просто страшное дело, до чего в наше время цацкаются с преступниками. Вот хоть сегодня вспыльчивый официант, когда его обвинили в том, что он стянул ящик гостиничного “Dôle”[43] (которого мсье Уайльд, просто в скобках, не рекомендует), заехал в глаз метрдотелю – и здорово его подбил. И как полагает его собеседник, отель – что, вызвал полицию? Нет, мистер, не вызвал. Eh bien[44], по высшему (или низшему) счету ситуации очень схожи. Приходилось ли двуязыкому господину заниматься проблемой тюрем?
Как же, как же, еще бы не приходилось. Он сам сидел в тюрьме, в сумасшедшем доме, снова в тюрьме, дважды состоял под судом за удушение американской гражданки (ныне леди N.): "В свое время я целый год просидел в одной камере с совершенно чудовищным типом. Если бы я был поэт (а я всего лишь корректор), я описал бы вам рай одиночного заключения, благость незапятнанного унитаза, свободу мысли в идеальной тюрьме. Назначение тюрем (улыбаясь мсье Уайльду, который смотрел на часы и мало что видел) определенно не в том, чтобы излечить душегуба, и не только в том, чтобы его покарать (чем можно покарать человека, у которого все с собой, в себе, вкруг себя). Их единственное назначение, назначение прозаическое, но единственно логичное, – в том, чтобы помешать убийце убить снова. Исправление? На свободу под честное слово? Миф, шутка. Зверя не исправишь. А воришек не стоит и исправлять (для них достаточно кары). В наше время в так называемых либеральных кругах заметны некие прискорбные настроения. Коротко говоря, убийца, который сам себя почитает за жертву, – он не просто убийца, он еще сумасшедший."
"Я, пожалуй, пойду", – сказал бедный, стойкий мсье Уайльд.
"Дома для душевнобольных, лечебницы, клиники – все это я тоже прошел. Жизнь в сумасшедшем доме, в куче с тридцатью, примерно, бессвязными идиотами – это ад. Я нарочно подделывал буйство, чтобы попасть в одиночку или в это их чертово крыло для особо опасных, – для пациента вроде меня там был рай несказанный. Единственный мой шанс остаться в своем уме состоял в том, чтобы изображать недоумка. Тернистый путь. Красивый дюжий санитар с удовольствием отвешивал мне оплеуху открытой ладонью, добавляя для сходства с сандвичем еще парочку – тыльной стороною руки, – и я возвращался в блаженное уединение. При этом всякий раз, как извлекали на свет мое дело, тюремный психиатр доносил, что я отказался обсуждать с ним то, что на их профессиональном жаргоне называется "супружеским сексом". С грустной радостью должен сказать, и с грустной гордостью также, что ни охранникам (а среди них попадались люди гуманные и прозорливые), ни фрейдовым инквизиторам (эти все как один дураки или жулики) не удалось ни взломать, ни каким-либо способом изменить ту грустную личность, которой я обладал."
Мсье Уайльд, заключив, что перед ним либо пьяный, либо помешанный, тяжело удалился. Хорошенькая консьержка (плоть есть плоть, а красное жало есть l'aiguillon rouge[45], и любовь моя не обидится) снова замахала ему. Он встал и пошел к ее стойке. Гостиницу в Стрезе ремонтируют после пожара. Mais[46] (поднимая хорошенький пальчик)...
Всю свою жизнь, и мы счастливы это отметить, наш Персон испытывал странное ощущение (знакомое трем знаменитым теологам и двум поэтам поплоше) присутствия за спиной, – так сказать, у плеча, – гораздо более крупного, невообразимо более мудрого, спокойного и сильного незнакомца, превосходящего его в рассуждении нравственности. В сущности, это и была его главная "сопроводительная тень" (некий критический скоморох задал R. таску за этот эпитет), и не будь у него этой прозрачной тени, мы бы и разговаривать не стали о дорогом нашем Персоне. На недолгом пути от кресла в гостиной до восхитительной девичьей шеи, полных губ, длинных ресниц и полуприкрытых прелестей Персон услышал, как нечто или некто предупреждает его, что лучше ему оставить Витт и уехать в Верону, Флоренцию, Рим, Таормину, если Стреза окажется недоступной. Он не внял своей тени и в фундаментальном смысле был, наверное, прав. Мы-то считаем, что у него оставалось еще в запасе несколько лет животных удовольствий, и мы-то были готовы затащить эту девушку в его постель, но в конечном счете ему оставалось решать и ему умирать, если он того пожелает.
Mais! (чуть сильнее, чем "но" или даже "однако"), у нее имеется для него хорошая новость. Он хотел перебраться на третий этаж, ведь так? Сегодня вечером он сможет это сделать. Дама с собачкой съезжает перед обедом. Довольно забавная история. Оказывается, ее муж присматривает за собаками в отсутствие их хозяев. А дама, когда сама отправляется путешествовать, обыкновенно берет с собой собачонку, выбирая из самых печальных. Сегодня утром позвонил муж и сказал, что владелец вернулся домой раньше времени и, не найдя своего любимца, закатил ужасный скандал.
26
Гостиничный ресторан, довольно убогое заведение, обставленное на деревенский покрой, был далеко не полон, впрочем, назавтра ожидались два обширных семейства, а кроме того, во второй – более дешевой – половине августа предполагался или мог бы предполагаться (складки временных оборотов применительно к изучаемому строению пришли в большой беспорядок) небольшой, но приятный приток немцев. Новая невзрачная девушка в народном наряде, порядочно открывавшем ее сливочный бюст, заменила младшего из двух официантов; черная повязка покрывала левый глаз мрачного метрдотеля. Нашему Персону предстояло вселиться в номер 313 сразу после обеда, и он отпраздновал подступающее событие благоразумной дозой "Ивана Кровавого" (водка с томатным соком), предварив им гороховый суп, свинину (переодетую в "телячьи котлеты") с бутылкой рейнского и чашкой кофе с двойной виноградной водкой. Мсье Уайльд смотрел в другую сторону, когда тронутый или одурманенный американец проходил мимо.
Комната оказалась точь в точь как ему требуется или требовалась (опять путаются времена) для ее посещения. Безупречно застеленная кровать стояла в юго-западном углу, и горничная, что несколько погодя стукнет или могла бы стукнуть, чтобы ее разобрать, не была или навряд ли была бы допущена внутрь, – если, конечно, те, кто внутри и вовне, а также кровати и двери дотянут до той минуты. На прикроватном столике соседствовала со свежей пачкой сигарет и дорожным будильником опрятно обернутая коробка с зеленой фигуркой лыжницы внутри, светившейся сквозь сдвоенный кокон. Коврик у кровати – преувеличенное полотенце, такое же бледно-синее, как постельное покрывало, оставался еще засунут под столик, но поскольку она наперед отказалась (капризная! строгая!) остаться с ним до зари, она навряд ли увидит, навряд ли когда увидит, как коврик выполняет свой долг, принимая первый квадрат солнца и первое прикосновение оклеенных пластырем Персоновых ступней. Пучок колокольчиков и васильков (различие их тонов походило на легкую ссору любовников) был помещен либо чтившим чужие чувства помощником распорядителя, либо самим Персоном в вазу на комоде, близ которой лежал сброшенный Персоном галстук, – третий оттенок синего, но в ином матерьяле (сериканет). При верной фокусировке удалось бы увидеть, как в кишечнике Хью шустро перемещаются брюссельская капуста и картофельное пюре, живописно перемешанные с розоватым мясом; в этом змеистопещерном ландшафте можно было бы разглядеть и два или три яблочных семечка, стеснительных странников, забредших сюда из более ранней трапезы. Сердце его, маловатое для такого увальня, имело форму слезы.