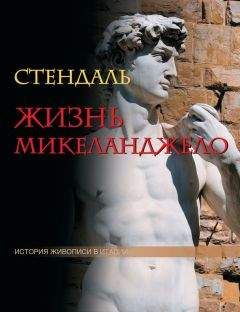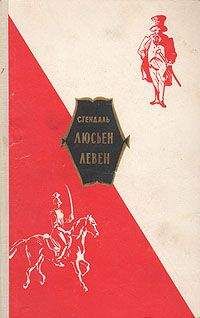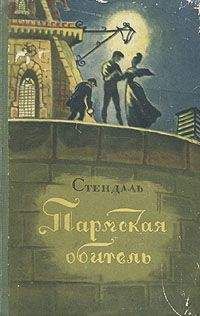Фредерик Стендаль - Ламьель
Все это навело Ламьель на ряд мыслей самого высокого полета, все более и более отдалявших ее от практического решения: выбрать себе молодого человека, у которого она могла бы спросить, что такое любовь, и пойти погулять с ним в лес.
ГЛАВА VII
Стоило Ламьель заметить в ком-нибудь добродетель, как она сразу решала, что это — лицемерие.
«Люди вовсе не делятся, как это думают глупцы, — говорил ей Санфен, — на богатых и бедных, на добродетельных и злодеев, но лишь на жуликов и на их жертвы: вот ключ к пониманию XIX века со времени падения Наполеона, ибо, — прибавлял Санфен, — к личной храбрости и к твердому характеру лицемерие пристать не может. Как может быть лицемером человек, когда он бросается на зубчатую стену какого-нибудь сельского кладбища, за которой стоят две сотни солдат? За исключением таких фактов, мой милый друг, не верьте никогда ни одной добродетели, хотя бы вам прожужжали ею уши. Ваша герцогиня, например, то и дело твердит вам о доброте, — по ее мнению, это самая главная добродетель. Но истинный смысл всех ее восторгов в том, что она, как и все женщины ее высокого положения, предпочитает иметь дело с обманутыми, а не с плутами; вот разгадка этого мнимого знания света, о котором женщины ее круга только и толкуют. Вы тоже не должны верить тому, что я говорю. Примените и ко мне то правило, которое я вам разъяснил; кто знает, нет ли и мне расчета вас обманывать? Я вам уже говорил, что мне приходится жить среди скотов, которым я должен постоянно лгать, чтобы не стать жертвой их грубой силы, поэтому мне особенно посчастливилось, когда я нашел существо, исполненное природного ума. Развивать этот ум и смело обнажать перед ним истину — восхитительное занятие, которым я вознаграждаю себя за все то, что мне приходится делать целый день, чтобы заработать себе на хлеб. Быть может, все, что я вам говорю, — ложь. Поэтому не верьте мне слепо, но старайтесь проверить, не окажется ли случайно то, что я вам сказал, некоей истиной. Например, разве я лгу вам, когда обращаю ваше внимание на какое-нибудь событие, происшедшее вчера вечером? Герцогиня все время толкует о доброте, а вчера вечером и нынче утром она была в отличном настроении, потому что в одном лье отсюда ее добрую приятельницу, графиню де Сент-Фуа, опрокинули в канаву лошади, когда она третьего дня вечером возвращалась к себе в замок».
После этих слов Санфен исчез. Так он всегда поступал с Ламьель; он хотел, чтобы она дала себе труд подумать. После ухода доктора Ламьель сказала себе: «Войны я увидеть не могу, но что касается твердости характера, я способна не только разглядеть ее у других, но смею надеяться, что проявлю ее и сама».
Она не ошиблась: природа дала ей душу, которая презирает слабость; но любовь уже начинала покушаться на ее сердце; она снова вспомнила аббата Клемана. Впрочем, не рассуждения навели ее на мысли об этом приятном молодом человеке; просто он был очень бледен, а в черной сутане, сшитой из шести локтей черного сукна, которые ему подарила г-жа Ансельм, выглядел еще более худым, что лишь увеличивало нежную жалость к нему Ламьель. С каким бы удовольствием, если бы это только было возможно, обсудила она с ним жестокие истины, которыми она была обязана высокой премудрости доктора! «Но, возможно, — прибавляла она, — все нападки аббата Клемана на любовь объясняются тем, что архиепископ Руанский приказывает ему так говорить под страхом лишить его места. В таком случае он совершенно правильно поступает, но я была бы дурой, над которой он мог бы в глубине души потешаться, если бы я поверила хоть словечку из того, что он мне проповедует. Когда он мне говорит об английской литературе, — это другое дело; такие вещи его епископа не интересуют, он и английского языка, может быть, не знает. Во всем том, что касается любви, меня хотят обмануть, а между тем не проходит дня, чтобы мне в книгах не попалось несколько фраз, в которых речь идет именно об этой любви. Интересно бы знать, куда относятся люди, занимающиеся любовью: к обманутым или к людям с головой?» С этим последним вопросом Ламьель обратилась к своему оракулу, но доктор Санфен не был настолько прост, чтобы дать на него точный ответ.
— Запомните хорошенько, мой друг, — сказал он, — что я решительно отказываюсь давать вам по этому поводу объяснения. Знайте только одно: что пытаться разобраться в этих вещах для вас в высшей степени опасно. Это все равно, что ужасная тайна из «Тысячи и одной ночи» — сказок, которые вас так забавляют: когда герой хочет узнать ее, на небе появляется огромная птица, бросается на него и выклевывает ему глаз.
Ламьель очень задела эта отповедь. «Во всем, что касается любви, меня водят за нос, — прекрасно, я никого не стану больше ни о чем расспрашивать, я буду верить лишь тому, что увижу сама».
Великая опасность, о которой упомянул в своем ответе осторожный доктор, лишь раззадорила Ламьель. «Посмотрим, испугаюсь ли я! — воскликнула она. — Все, что я по-настоящему знаю о любви, — это то, что мой дядюшка соблаговолил мне сказать, повторяя, что не следует ходить в лес с молодыми людьми. Ну и что ж, возьму да и пойду в лес с молодым человеком, и тогда посмотрим. А что касается моего аббатика Клемана, то я буду с ним вдвое нежнее, чтобы довести его до белого каления. Ну и забавен же он был вчера, когда в бешенстве выхватил свои часы; если бы я только посмела, я бы обязательно его расцеловала. Интересно, какой бы у него был вид?»
Любопытство к вопросам любви достигло у Ламьель высшей точки, когда, зайдя в один прекрасный день к герцогине, она прервала ее совещание с г-жой Ансельм: речь, видно, шла о ней. Ночью прибыл курьер из Парижа; ожидалось объявление июльских ордонансов; близкий друг сообщал ей по этому поводу подробности, заставившие ее дрожать за сына. Собранные в лагере Сент-Омера войска[22] должны были двинуться на Париж, чтобы образумить левых депутатов, готовивших грандиозный заговор. Герцогиня отослала курьера обратно с письмом, где она сообщала сыну, что слабеет с каждым днем и просит у него последнего, быть может, доказательства его сыновней преданности, а именно: выехать к ней не позже, чем через два часа после получения письма, и провести неделю в Карвиле.
«Эта Политехническая школа[23], — размышляла она, — была, несомненно, ошибкой бедного герцога: даже при Наполеоне она была республиканской. Не подлежало сомнению, что эти господа левые постарались сделать из нее гнездо крамолы».
— Герцог де Миоссан — и вдруг республиканец! — воскликнула она брезгливо. — Нечего сказать, вот одолжил бы!
Менее чем через два часа после того, как герцогиня в величайшей тайне отправила обратно курьера, доктор уже знал, что молодой герцог возвращается в замок. Этого он боялся больше всего. «У молодого человека обаятельная наружность; он носит мундир — этого одного достаточно, чтобы напомнить Ламьель о Наполеоне и отнять у меня мою очаровательную приятельницу; мне уже стоило немало трудов спасти ее от этого аббата Клемана, робкая добродетель которого лила воду на мою мельницу. Было бы нелепо рассчитывать на такую же сдержанность со стороны молодого герцога, которым вдобавок руководит его камердинер — ужасный мошенник. Он может намекнуть моей маленькой Ламьель о моей роли во всей этой истории, и тогда окажется, что я старался развивать ее ум лишь для того, чтобы сделать ее свидания с молодым герцогом более пикантными».
Через два часа явился в замок в своем воскресном платье достопочтенный Отмар. Его появление в восемь часов вечера вызвало целый переполох; у входа в большой двор колокол дергался уже более четверти часа, прежде чем Сен-Жан, старший камердинер, хранивший ключи от ворот, убедился в том, что действительно звонят. Герцогине в этом звоне почудилось нечто зловещее. «Что-нибудь, верно, случилось в Париже, — подумала она. — Какое решение мог принять мой сын? Господи, какое несчастье, что этот господин Полиньяк[24] попал в министры! Видно, нашим бедным Бурбонам суждено призывать к себе в советники дураков. Ну что бы им остановиться на господине де Виллеле[25]? Он, конечно, буржуа, но таким и видней, почему буржуа нападают на двор. Верно, Политехническую школу привели теперь к дворцу, и эти несчастные дети, обольщенные ласковыми словами короля, станут защищать Тюильри, как десятого августа его защищали швейцарцы[26]».
В нетерпении герцогиня схватила колокольчик и стала созывать всех своих горничных; она открыла окно и, полуодетая, выбежала на балкон.
— Скорей, Сен-Жан, скорей! Да скоро ли вы, наконец, откроете?
— В самый раз теперь открывать, — ответил ворчливо старый лакей, — только сунься — мигом тебя искусают.
— Так вы боитесь, что вас искусают люди, которые осаждают мои ворота? Что это за люди?
— И скажете тоже! — отвечал раздосадованный старик. — Я говорю о ваших собаках, что гоняются за мной по пятам. Надо же было выписывать из Англии этих страшилищ — бульдогов! Уж кого эти англичане схватят, того они больше не выпустят.