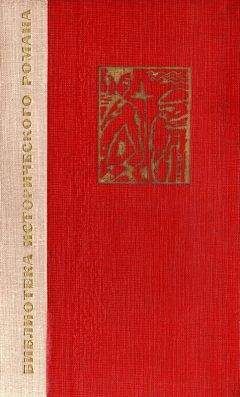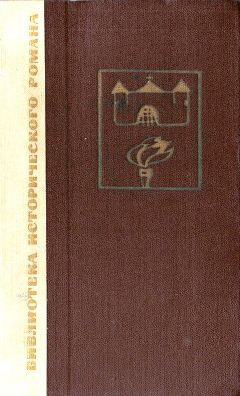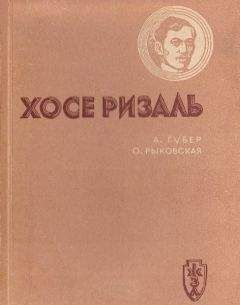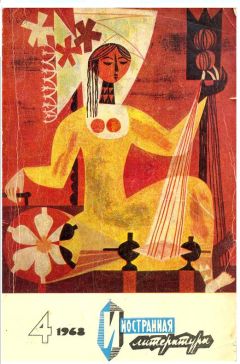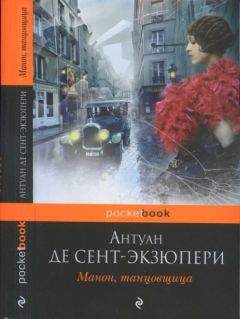Антуан де Сент-Экзюпери - Манон, танцовщица (сборник)
Но вернемся к моему Ривьеру. Я вовсе его не «пристраивал». Скорее всего, я недостаточно ясно выразил то, что было для меня крайне важно. Дело не в герое, подвел язык. С годами я все явственнее ощущаю пропасть, которая лежит между теоретическими воззрениями на человека и житейской практикой. Я вижу, что существуют два этих плана, оба они очень значимы, но между собой несовместимы. Когда Ромен Роллан провозглашает: «Пусть этот мир погибнет, но мы не потерпим ни малейшей несправедливости», он прав, и его порыв прекрасен. Но переведи мы этот порыв на житейский план, и он покажется идиотизмом. В жизни говорят по–другому: «Мы готовы перетерпеть сотню несправедливостей, лишь бы остаться в живых». Был период, когда у нас постоянно летели шатуны, настоящая эпидемия. Механики могли бы сказать: «Мы тут ни при чем. За добротность металла мы не отвечаем!» Но как только с механиков стали брать штраф за поломку, число поломок уменьшилось на две трети. При этом определить, какой именно шатун сломается, независимо от усилий механика, невозможно. А ведь штраф в этом случае несправедлив. Но что тут поделаешь? Здесь Ромен Роллан не годится.
С другой стороны, мне отвратительно компостирование мозгов фальшью. Мне не понравится, если кто–то мне скажет: «Вы полетите сегодня ночью, в эту свинскую погоду, из любви ко мне, чтобы меня порадовать. Если вы сломаете себе шею, нас утеплит мысль, что вы пожертвовали собой ради меня. Если справитесь, наградой вам будут мои поздравления». Я сочту это оскорблением. Нет такого человека, ради которого я должен жертвовать хотя бы пальцем. И если мне это внушают, меня обманывают. Меня устроит, если и он, и я будем повиноваться одному и тому же закону, и полечу я в общем для всех порядке. Если законом для нас будет естественный ход вещей, не нуждающийся в объяснениях и оправданиях, если ночной полет следует после дневного. Когда я выстаивал против грозы, мне не нужны были метафизические аргументы. В метафизических аргументах мы начинаем нуждаться на отдыхе. Против грозы летишь только для того, чтобы оказаться в спокойной зоне. Это простое соображение убедительно и для самых непокорных. Если в минуту, которая требует от человека наивысшего напряжения сил, он услышит: «Сделай это ради меня или ради группы Буйю–Лафона [26]или ради родины», он возмутится, почувствовав себя униженным.
Я не сомневаюсь , что заведующий секцией трикотажа в галерее Лувр старается наладить со своими продавцами теплые отношения: не испытав большого счастья от продажи пары носков, они хотя бы вознаграждены улыбкой. Благодаря ей они работают ради чего–то еще, а не только из ничтожного коммерческого интереса. Но если власть начальника так велика, что посягает даже на жизнь человека, если работа, которой он руководит, влечет за собой физические травмы, душевные и даже жертвы, как это бывает у нас, то такое должностное положение намного превыша ет компетенции человека, и начальник сильно преувеличит свою значимость, если вообразит, что его улыбка способна кого–то утешить. Она будет означать, что он ни в грош не ставит тех, кем руководит. Вроде старшины, который уверен, что солдаты его собственность. Но на высоком уровне ответственности начальник из уважения к подчиненным обязан отстраниться от них. И подчиненные прекрасно это понимают.
Я помню, как в один прекрасный день в Буэнос–Айрес прилетел директор агентства Гавас, полет был неимоверно трудным, и, сойдя с самолета, он решил, что порадует летчика, сказав: «Если бы вы знали, как господин Буйю–Лафон любит своих пилотов, как он им благодарен…» Пилот потерял дар речи и от обиды покраснел. Это что же? Три часа подряд он продирался со своим самолетом через грозу, разряды трещали чуть ли не в двадцати метрах, а он, яростно костеря все и вся, пробивался к земле, к аэродрому и все это ради какого–то типчика?! Постояв, пилот повернулся ко мне. «Буйю–Лаффон… Скажут же такую глупость!» И расхохотался. Бывают случаи, когда и благодарность неприлична. Например, рискуя собственной шкурой, я подобрал незнакомого летчика в Сахаре, и он благодарит меня за самоотверженность. Совершенно напрасно. Никогда мне не казалась его жизнь интереснее моей, я не дожил до такой степени уничижения. Он мне ничего не должен.
Мне не удался Ривьер, потому что я не сумел передать, что понимаю под достоинством власти, а именно это я и хотел передать. Уважение. А вышло, что он просто–напросто более суров, более жесток. Очень жаль. Мне хотелось, чтобы он не унижал себя софизмами, пытаясь подладиться к жене Фабьена. В этом случае ему нет прощения, и пытаться получить его значит лукавить. Жена Фабьена права. Он тоже, но не имеет права голоса. Ривьеры бы стали чудовищами, если бы им не противостояли Ромены Ролланы. Но мне почему–то кажется, что земля бы остановилась, если бы Ромены Ролланы правили ей.
Я чувствую, что выражаюсь довольно смутно. Но, быть может, вы умеете читать между строк. Мне бы очень хотелось объяснить все более отчетливо, но я торопился написать вам, потому что вряд ли будет вторая статья, которая меня так взволнует и растрогает, как ваша.
Если вы мне напишете, буду счастлив.
Антуан де Сент–Экзюпери,
пилот компании Азропосталь
Касабланка
Документы
Приветствие на Празднике приданого журнала «Мод пратик»
6 января 1932 г.
В среду 6 января 1932 года в зале Гаво Антуан де Сент–Экзюпери председательствовать на Празднике приданого, который каждый год устраивал своим «крестницам», девушкам из хороших семейств, разорившихся или попавших в трудные обстоятельства, еженедельник «Мод пратик», семейный журнал. После приветственного слова мадам Сен–Рене Таяндье счастливым лауреаткам, из скромности участвовавшим под псевдонимами Сиротка, мадемуазель Май, Анн, Антигона, Мужественная, Пострадавшая, вручили премии (от 8000 до 10 ООО тогдашних франков). «Автор «Ночного полета» сумел так просто и так проникновенно передать ощущение счастья от женского присутствия у семейного очага, что растроганные и завороженные слушательницы запомнили его слова на долгие годы». Праздник завершаться представлением: музыка, танцы, спектакль «У сердца свои законы» по пьесе Робера де Флера и Кайяве.
Свою приветственную речь мадам Сен–Рене Таяндье завершила следующими словами:
«Медам, сегодня мы устроили праздник в честь мужественной молодежи и попросили возглавить его молодого… победителя. Я уверена, что он несказанно удивлен, оказавшись здесь с нами, что, совершая подвиги в заоблачных высях среди звезд, он и представить себе не мог, перед какой аудиторией окажется. Но недаром говорят, мсье, что может случиться все!
Вы знаете, медам, что мсье де Сент–Экзюпери авиатор, что он совершает полеты из Франции в Аргентину, из Касабланки в Дакар, из Буэнос–Айреса в Чили, что летал он и в мирное, и в военное время.
Только что он получил, и уверена, тоже к немалому своему удивлению, премию Фемина за свою прекрасную книгу «Ночной полет». Неподдельная искренность, с какой она написана, явление редкое и необыкновенно отрадное. Я не стану пересказывать его замечательный роман, который, впрочем, и пересказать невозможно. Не стану объяснять, какой высокой и захватывающей теме он посвящен. Наш юный президент, будучи авиатором, рассказал о полетах, чего я никак не сумею сделать, так как никогда еще не поднималась в воздух, хотя, кто знает, возможно, еще поднимусь. Я скажу сейчас о другом: комитет премии Фемина принес славу «Ночному полету», а «Ночной полет» принес славу комитету Фемина.
Мы с радостью убедились, что наш выбор одобрен прессой, критикой и даже кругами… весьма капризными, брюзгливыми, словом… непростыми. Я хочу сказать мсье де Сент–Экзюпери еще вот что: впервые в комитете Фемина я видела такое уверенное голосование с первого раза. Прибавлю, что наш единодушный порыв оставил у нас и чувство легкого огорчения, так как в тени остался роман «Клер» господина Шардона, который, но нашему мнению, должен был вызвать ожесточенную борьбу в комитете и отклики в публике. Но в этот день нас ожидал сюрприз: обмениваясь взглядами с коллегами, обращая к вновь прибывшим вопросительный взгляд, мы читали на губах два недлинных слова — «Ночной полет». И было что–то бесконечно радостное в нашем тайном и неожиданном согласии.
Медам, мне особенно запомнилась одна страница из этой книги — летчик снижается, приближается к земле и видит множество мерцающих во тьме огоньков, ему шлют призыв дома, люди, сама жизнь. И если я, медам, пытаюсь понять, что связывает молодого авиатора, его книгу с нашими крестницами, то ответ мой таков: его связывает с ними тоже самое ощущение сближения с жизнью, какое он испытывает, видя с высоты россыпь слабеньких мерцающих огоньков, похожих на светлячков в траве. Свет — знак человеческой жизни, зов в ночи, свидетельство борьбы, радости, надежд.