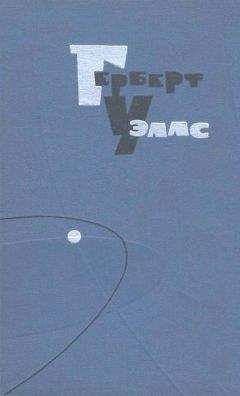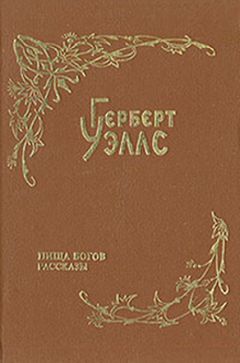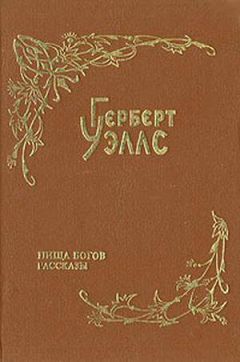Герберт Уэллс - Бэлпингтон Блэпский
Они привели коньки в порядок, отправились на каток и катались до темноты. Тедди и Маргарет хорошо катались, а Теодор успешно овладевал этим искусством с их помощью.
Никто из них не поминал о новогоднем вечере и о впервые блеснувшей им радуге пылких сближений — ни слова. Это кануло куда-то глубоко, скрылось под другими, незримо зарождающимися ростками жизни.
Только один раз, когда они рука об руку стремительно скользили вдвоем через весь пруд, Теодору показалось, будто Маргарет шепнула — скорее себе, чем ему: «Бэлпи, милый».
Но он не был в этом уверен. Мгновение скользнуло в вечность.
Он притворился, что не слышал.
7. Сети обязательств
Лондон необозримо расширил мир Теодора.
Подлинный мир, в котором жил Теодор, представлялся ему, как и всякому подростку, абсолютно устойчивым и неизменным. Для каждого ребенка его отец и мать, дом и окружение — это нечто непреходящее; в детстве человечества небо и земля неподвижны, горы вечны, а всякие социальные и религиозные законы установлены раз и навсегда. Биологи уверяют, хотя каким образом они это узнали, я не могу себе представить, будто муха не может обнаружить движение, которое обладает скоростью меньше одного дюйма в секунду, и потребовались длительные систематические наблюдения, прежде чем люди могли установить движение ледников, сползающих в долины Альп.
Итак, Теодор оторвался от прочно обосновавшегося и неизменного мира Блэйпорта, острова Блэй и станции Пэппорт только для того, чтобы на первых порах открыть более обширную неизменность Лондона. Он очутился в безграничном, неизменном в своем постоянства волшебном мире, в котором людские потоки приливали и отливали. Он был бесконечно разнообразен, этот мир; суетливые улицы, нескончаемые вереницы домов, неуловимо отличающиеся в каждом квартале, так что Блумсбери, Кенсингтон, Хемпстед, Пимлико, Хайбэри, Клэпхем нельзя было спутать даже в самых их незаметных уголках; просторные парки с густолиственными деревьями, голубые просветы и сверкающие декоративные воды; угрюмые, величественные серые здания; Уайтхолл и Вестминстер и стремительно вспыхивающие огни Стрэнда и Пикадилли. Кэбы и омнибусы уже становились реже, такси только что начали появляться в те дни, но лошадь все еще преобладала в уличном движении; рабочие по сноске домов и строители орудовали между Холберном и новой судебной палатой. Все менялось и все стремилось к решительной перемене, но самое это положение вещей казалось Теодору вечным. Оно только предоставляло ему на первых порах новый, более обширный, более реалистический фон для игры его фантазии.
Он, правда, разглядывал Лондон гораздо больше, чем он разглядывал Блэйпорт. Но Лондон был слишком оглушительно непостижим для него, и он не пытался освоить его сразу. Его услужливое воображение временно заполняло пробелы плохо усвоенным месивом из героики и истории. Бэлпингтон Блэпский после блестяще завершившейся избирательной кампании торжественно едет на коне по Уайтхоллу в парламент или усмиряет бунтующую толпу, яростно осаждающую Бэкингемский дворец. Или он появляется, когда все главнокомандующие армии и флота признают свое поражение, и наносит сокрушительный удар уже почти победившей Германии, Франции, а может быть, даже и всей объединившейся Европе, и с торжеством едет по Пэлл-Мэлл. Или он отправляется на вокзал Виктория и, подобно Нельсону, Муру и Вульфу, преисполнен трагических и безошибочных предчувствий своей последней великой жертвы. Или — это уж было совсем в другом стиле — у него чудесный таинственный дом в Парк-Лейн (который в то время все еще представлял собою нерушимый ряд частных владений). Там он живет, он, Бэлпингтон Блэпский, великий художник, отпрыск старинного рода, и при этом влиятельная особа, ну вот как лорд Лэйтон, этот изысканный президент Королевской академии, но вместе с тем окутанный тайной, вроде героев Уильяма Ле Кю, и с такими же безграничными возможностями, как дизраэлевы Ротшильды.
Если Лондон, овладевая воображением Теодора, сначала казался инертным, тысячи разнообразных знаков все же помогали ему замечать и узнавать действительность, которая шевелилась под несметным множеством самых разнообразных личин. Постепенно они внушали ему, что этот Лондон может измениться, что он, в сущности, уже меняется. В Гайд-парке под Мраморной аркой вечно слышались выкрики ораторов, призывавших толпу прохожих страшиться бога или остерегаться попов, взглянуть в лицо «германской угрозе» или «желтой опасности», искать спасения в вегетарианстве, дабы не погибнуть от рака, этой неотвратимо надвигающейся кары, восстать против капиталистических тиранов и готовиться к диктатуре пролетариата. Все эти противоречивые надрывающиеся голоса сбивали с толку и вызывали смутное чувство тревоги. Они подрывали веру в незыблемость и неизменность вещей. Брокстеды тоже, казалось, стремились к чему-то положительному в этом беспорядочном, хаотическом, неустойчивом мире. А тетушка Люцинда Спинк считала, что Теодору необходимо открыть глаза на более серьезные стороны действительности.
Тетушка Люцинда Спинк была старшая, самая худая и самая энергичная из многочисленных сестер Спинк. Она была точь-в-точь как Клоринда, только худая и костлявая, и тетя Аманда тоже была точь-в-точь как Клоринда, только немножко выдохшаяся. Тетя Аманда была моложе Клоринды, она была замужем, но пережила своего мужа; это был присяжный поверенный, по имени Кэтерсон, личность ничем не замечательная; он оставил ее бездетной, с очень недурным состоянием, но она каким-то образом утратила всю ту предприимчивость, которой отличались ее сестры. Она теперь относилась ко всему с трезво-благодушной шутливостью и находила столько забавного в жизни, что даже кое-что записывала, но от печатания воздерживалась из-за родных. Просто она иногда говорила разные смешные вещи. Тетушка Люцинда, напротив, гордилась своим неумением шутить; это была всеми уважаемая, общественно полезная старая дева, суфражистка, но не из воинствующих, видная фигура в Фабианском обществе, член Совета Лондонского графства и весьма предприимчивая особа. Это она заставила Клоринду переселить Теодора из Паддингтона. Узнав, как неосмотрительно поступила Клоринда, она тут же обрушилась на нее. Она пересмотрела все самые знаменитые справочники и картограммы общественной и моральной жизни Лондона и выяснила, что Теодора поселили поблизости от конечной станции Западной окружной железной дороги, на улице, изобилующей дешевыми меблированными комнатами и частными заведениями весьма нежелательного свойства.
— Мужчины приходят на поезд в самую последнюю минуту, — говорила она. — А если они опаздывают и не попадают на поезд, они остаются ночевать в Паддингтоне.
Это было все, что она сказала, но этого было достаточно, чтобы создать яркую, красочную картину страшной распущенности нравов.
Итак, хотя это было, значительно дальше от художественной школы Роулэндса, Теодора переместили поближе к Черч-роуду, в гораздо более комфортабельную комнату с примыкавшей к ней крошечной неотапливаемой мастерской; сдавала это помещение солидная женщина, которую Люцинда хорошо знала; Аманда переставила все по-своему и очень уютно убрала обе комнатки. Теодора обязали приходить на Черч-роуд по воскресеньям к чаю, когда у тети Люцинды собирались гости, на которых она оказывала моральное воздействие, обсуждая с ними различные движения; ему разрешили приводить с собой кого угодно из друзей, а кроме того, приходить когда угодно к завтраку или обеду, предупредив об этом заранее, и вообще считать их дом посильной усладой его одиночества в Лондоне. Время от времени тетя Люцинда или тетя Аманда наведывались к нему посмотреть, как он живет, предостеречь его от дурной компании, и тетя Люцинда отчитывала его за неряшливость, а тетя Аманда приносила ему цветы. Но между Клориндой и ее сестрами давно существовал ледок взаимного неодобрения, и она редко заглядывала в Хемпстед и держала себя как чопорная гостья.
Скрытое беспокойство Теодора по поводу цели в жизни весьма усиливалось от серьезных разговоров, которые вела с ним тетушка Люцинда. Она любила, когда он приходил пить чай в будни, в отсутствие Аманды, потому что у Аманды была манера улыбаться тихонько, не говоря ни слова, что, с точки зрения тети Люцинды, отравляло разговор.
— Тебе пора серьезно заняться делом, Теодор, — сказала она ему однажды.
— Я очень серьезно занимаюсь живописью, знаете. Я хожу в вечерние классы, пишу обнаженную натуру.
— Обнаженная натура — это еще не все, — заметила тетя Люцинда.
— Я изучаю драпировку, — сказал Теодор. — Если хотите, могу вам показать кое-какие этюды.
— Ну, разумеется, ты занимаешься живописью. Но ведь есть и другие вещи. Разве политические вопросы, общественная жизнь для тебя ничего не значат?
— Политика… — протянул Теодор. — Мне это представляется каким-то наростом.