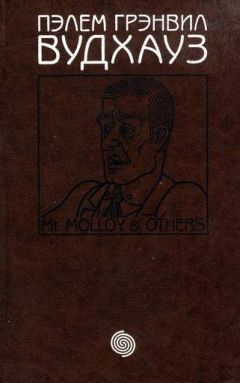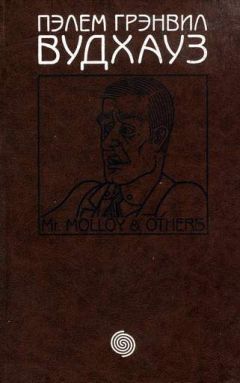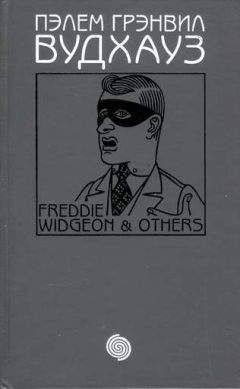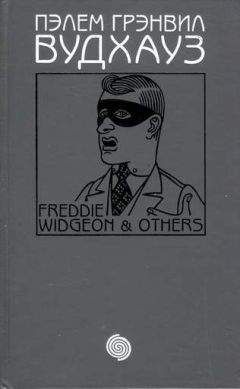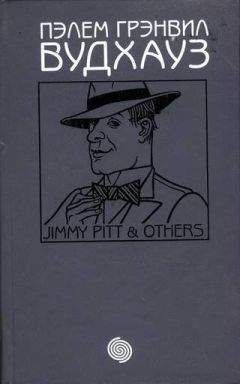Пэлем Вудхауз - Том 15. Простак и другие
Наверное, не слишком умный мотылек придерживается таких же взглядов на лампу. Влетая в пламя, он поздравляет себя с тем, как здорово он построил отношения на отличнейшей основе, полной здравого смысла.
И вот, когда я чувствовал себя ясно и безопасно, грянула беда.
Была среда, мой «полувыходной», но за окнами лил дождь, и бильярд в «Перьях» не так уж манил меня, чтобы отшагать две мили. Я устроился в кабинете. В камине потрескивал приветливый огонь, и темноту освещало лишь поблескиванье углей. За окном шуршал дождь, трубка горела ровно. Всё это вместе, да вдобавок мысли о том, что пока я блаженствую, Глоссоп сражается с моим классом, навевало на меня задумчивый покой. В гостиной играла на пианино Одри. Звуки слабо долетали до меня через закрытые двери. Я узнал мелодию. Интересно, вызывает ли она и у Одри те же воспоминания, что и у меня? Музыка смолкла. Я услышал, как открылась в гостиной дверь, и Одри вошла в кабинет.
— Я и не знала, что тут кто-то есть, — сказала она. — Я замерзла. А в гостиной камин потух.
— Проходи и садись, — пригласил я. — Ты не возражаешь, что я курю?
Я подвинул для нее кресло к камину, ощущая при этом определенную гордость. Вот я, наедине с ней, а пульс у меня стучит ровно, мозг холоден. Передо мной мелькнул образ Настоящего Мужчины — сильного, хладнокровного, железной рукой контролирующего свои эмоции. Я упивался собой.
Одри посидела несколько секунд, глядя в огонь. В самой середке черно-красного угля вились маленькие язычки. За окном слабо завывал ураган, и струи дождя хлестали по стеклу.
— Тут так уютно, — произнесла она наконец.
Я вновь набил трубку и разжег её. Глаза Одри — я увидел их на миг в свете спички — смотрели мечтательно.
— А я сидел тут и слушал тебя, — заметил я. — Мне нравится последняя вещь.
— Тебе она всегда нравилась.
— Ты это помнишь? А помнишь, как однажды вечером… нет, ты, конечно же, забыла.
— В какой вечер?
— О, да ты не помнишь. Однажды вечером, когда ты играла именно эту мелодию… в студии твоего отца.
Одри быстро подняла глаза.
— А потом мы сидели в парке. Я выпрямился.
— Мимо еще прошел человек с собакой, — подхватил я.
— С двумя.
— Нет, с одной.
— С двумя. С бульдогом и фокстерьером.
— Бульдога я помню, а… честное слово, ты права! Фокстерьер с черным пятном над левым глазом.
— Над правым.
— Да, над правым. Они подошли, и ты…
— Угостила их шоколадкой.
Я медленно откинулся на кресле.
— У тебя поразительная память.
Она молча наклонилась над камином. По стеклу всё барабанил дождь.
— Так тебе по-прежнему нравится, как я играю на пианино?
— Еще больше прежнего. Теперь в твоей игре появилось что-то новое, чего не было прежде. Я не могу выразить, это…
— Думаю, Питер, это опыт, — спокойно перебила Одри. — Теперь я на пять лет старше. За эти годы много пережила. Не всегда приятно окунаться в жизнь, но… на пианино играешь лучше. Опыт входит в сердце и передается через пальцы.
Мне показалось, что говорит она чуть-чуть горько.
— Одри, тебе худо приходилось?
— Всякое бывало.
— Мне жаль.
— А мне в общем-то нет. Я многому научилась.
Она опять умолкла, взгляд её не отрывался от огня.
— О чем ты сейчас думаешь? — спросил я.
— О многом.
— О приятном?
— И о приятном тоже. Последняя мысль была приятная. Мне повезло, что я нашла теперешнюю работу. В сравнении с прежними…
Её передернуло.
— Мне бы хотелось, Одри, чтобы ты рассказала мне об этих годах, — попросил я. — Что еще за работы?
Одри откинулась в кресле и прикрыла лицо газетой. Глаза ее оказались в тени.
— Хм, дай-ка вспомнить. Какое-то время я работала медсестрой в Нью-Йорке…
— Трудно было?
— Ужасно. Вскоре мне пришлось это бросить. Но… всякому выучиваешься. Понимаешь, сколько в твоих бедах надуманного. Вот в больнице беды настоящие. Там они бросаются в глаза.
Я промолчал. Я чувствовал себя немножко неуютно. Так чувствует себя человек в присутствии другого, более значительного.
— Потом я нанялась официанткой.
— Официанткой?
— Говорю же тебе, чем я только ни занималась! Была и официанткой. Очень, кстати, плохой. Била тарелки. Путала заказы. А в конце концов нагрубила клиенту и отправилась искать другую работу. Кем я работала потом, забыла. По-моему, в театре. Год ездила с труппой. Тоже нелегкий труд, но мне нравилось. После этого стала портнихой, что труднее, это я просто ненавидела. А потом мне наконец впервые улыбнулась удача.
— Какая?
— Я познакомилась с мистером Фордом.
— И что же?
— Ты, наверное, не помнишь мисс Вандерли, американку? Она приезжала в Лондон лет пять-шесть назад. Мой отец учил её живописи. Она была очень богата, но безумно рвалась в богему, поэтому и выбрала отца. Она вечно сидела в студии, и мы с ней очень подружились. Однажды, после всех моих мытарств, я подумала, что надо бы написать ей. Может, она сумеет найти для меня нормальную работу. Она такая милая. — Голос у Одри дрогнул, и она совсем спряталась за газету. — Она хотела, чтобы я просто переехала к ним, но я не могла так поступить. Я сказала, что должна работать. Тогда она порекомендовала меня мистеру Форду, Вандерли знали его очень хорошо, и я стала гувернанткой Огдена.
— Что? — закричал я. Она смущенно засмеялась.
— Не думаю, что из меня получилась такая уж хорошая гувернантка. Я почти ничего не знаю. Мне самой нужна няня. Но я как-то справилась.
— Этот маленький изверг — он душу из тебя, наверное, вытряс?
— О, здесь мне снова повезло! Я ему почему-то понравилась, и он вел себя как настоящее золотце. Насколько мог, конечно, и если я не особо мешала ему безобразничать. Я и не мешала. Я очень слабая. Счастливое время, такого у меня давно не было.
— А когда он приехал сюда, ты тоже приехала, чтобы оказывать на него нравственное воздействие?
— Более или менее, — засмеялась она.
Мы посидели молча, а потом Одри высказала мысль, бродившую у нас обоих:
— Как странно, Питер, что мы с тобой сидим вот так и болтаем после всего, что… после всех этих лет.
— Точно во сне.
— Да, в точности как во сне… Я так рада… Ты не представляешь, как я ненавидела себя порой за… за…
— Одри! Не надо так говорить. Давай не будем вспоминать про это. К тому же, вина целиком моя.
Она покачала головой.
— Ладно, давай скажем, что мы не поняли тогда друг друга.
— Да, — медленно кивнула Одри, — не поняли.
— Но теперь понимаем, — продолжил я. — И мы друзья, Одри.
Она не ответила. Мы долго сидели в молчании. А потом — видно, сдвинулась газета — отсвет огня упал на её лицо, заблестел в глазах, и кровь у меня запульсировала в жилах, словно барабан, предупреждающий город об опасности. В следующую минуту тень снова закрыла ее глаза.
Я сидел, вцепившись в подлокотники кресла. Я трепетал, со мной что-то творилось. У меня зародилось чувство, будто я на пороге чего-то чудесного и опасного.
Снизу донеслись голоса мальчиков. Занятия закончились, а значит, и этот разговор у камина. Через несколько минут кто-нибудь — Глоссоп или мистер Эбни — непременно вторгнется в наше убежище.
Мы оба поднялись, и тогда — случилось это. Одри оступилась в темноте. Она споткнулась, рука её схватилась за мой пиджак, и она очутилась в моих объятиях.
Длилось всё одну секунду. Она обрела равновесие, двинулась к двери и исчезла.
А я замер на месте, пораженный ужасом от открытия, пришедшего ко мне в этот короткий миг. Простое касание начисто сокрушило хлипкое сооружение дружбы, а оно казалось мне таким крепким! Я говорил любви: «До сих пор, и ни шагу дальше», — а любовь нахлынула на меня еще сильнее из-за того, что её сдерживали. Время самообмана кончилось. Я понял себя.
Глава VIII
То, что Бак МакГиннис — не лежачий камень и действовать будет быстро, я понял из характеристики Уайта, а еще раньше — из личных наблюдений. Мир делится на мечтателей и людей действия. Из того малого, что я видел, я отнес Бака к последнему классу. Каждый день я ждал, что сегодня он приступит к делу, и когда день проходил, был приятно разочарован. Но я не сомневался, час придет. И он пришел.
Я предполагал, что атаку Бак предпримет фронтальную, не пойдет на тонкие уловки. Но атака оказалась настолько лобовой, что меня парализовало от изумления. Казалось невероятным, чтобы события, обычные для Дикого Запада, вдруг развернулись в мирной Англии, пусть даже и в таком уединенном местечке, как «Сэнстед Хаус».
Выпал один из тех бесконечно тянущихся дней, какие случаются только в школе. Сильнее любого другого заведения школа зависит от погоды. Утром каждый мальчик встает с постели, заряженный определенным количеством озорства, и он должен, если он хочет заснуть вечером, избавиться от него до отбоя. Вот почему все учителя так ждут летнего семестра, когда перемены проводят на воздухе. Нет зрелища приятнее для учителя частной школы, чем толпа мальчишек, выпускающих пары на солнышке.