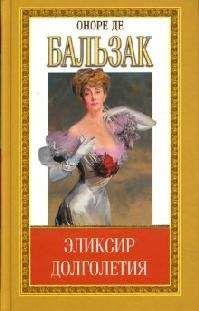Оноре Бальзак - Крестьяне
— А кем же вы его сделаете? — спросил Блонде.
— Для начала — слугой, — ответил Фуршон, — потому, имея хозяев перед глазами, он живо пообтешется, и будьте покойны: хороший пример поможет ему разбогатеть, не задевая законов, как вы все это делаете!.. Кабы вы, ваше сиятельство, назначили его к себе на конюшню, чтобы он приучился ходить за лошадьми, мальчонка был бы здорово рад... потому что он людей боится, а скотины нет.
— Вы, дядя Фуршон, человек умный, — прервал его Блонде, — вы прекрасно отдаете себе отчет в том, что говорите, и без толку не болтаете...
— Нечего сказать, хорош ум! Да я свой ум в «Большом-У-поении» оставил вместе с двумя моими монетками. Вот оно что...
— Как же это такой человек, как вы, дошел до нищеты? Ведь при теперешнем положении крестьянин должен пенять на самого себя за постигшее его неблагополучие, он свободен, он может работать. Теперь не то, что раньше. Если крестьянин сумеет сколотить копейку, он всегда найдет продажную землю. Он может ее купить, а тогда он сам себе хозяин!
— Видел я прежние времена, вижу и теперешние, дорогой вы мой ученый барин, — ответил Фуршон. — Вывеску, правда, сменили, а вино осталось все то же! Нынешний день — только младший братец вчерашнего. Вот пропишите-ка это в своих газетах! Разве нас освободили? Мы все так же приписаны к своей деревне, и барин по-прежнему тут, и зовут его Труд... Все наше достояние — мотыга — по-прежнему у нас в руках. На барина ли, на налоги ли, — налогов с нас много берут, — а все одно надо всю жисть трудиться в поте лица.
— Но вы же можете выбрать себе какое-нибудь занятие, поискать счастья в другом месте? — сказал Блонде.
— Говорите — поискать счастья?.. А куда я пойду? Чтобы уйти из своего округа, нужен паспорт, а за него пожалуйте сорок су! Вот уж сорок годов не слыхал я, как у меня в кармане звякает паршивенькая монета в сорок су о свою соседку. Чтобы идти куда глаза глядят, надобно столько же экю, сколько встретишь на пути деревень, а много ли найдется Фуршонов, у которых есть на что побывать в шести деревнях? Только военная служба вытягивает нас из селений. А на что нам нужна она, эта армия? Чтобы полковник жил за счет солдат, как богатый живет за счет крестьянина? Пожалуй, на сотню полковников одного и то не сыщешь, чтоб из нашего брата, крестьян, был. Тут, как и везде, богатеет один, а сотня других пропадают. А почему они пропадают?.. Богу известно да ростовщикам тоже! Вот и выходит, что лучше всего сидеть по своим деревням, куда нас, не хуже овец, загнала тяжелая наша жизнь, как раньше загоняли господа. И плевать мне на то, что нас здесь держит! Держит ли нас здесь нужда или барин — все одно мы, как каторжные, на весь век к земле прикованы. Вот мы ее, матушку, и ковыряем, и перекапываем, и навозим, и разделываем для вас, что родились богатыми, как мы родились бедняками. Все мы, вместе взятые, никуда не уйдем, какие есть, такие и останемся... Наших в люди выходит куда меньше, чем ваших вниз скатывается! Мы хоть и не ученые, а в этом деле тоже кое-что понимаем. Не надо нам ставить каждое лыко в строку. Мы вас не беспокоим, дайте и нам спокойно пожить... Не то, если дело этак дальше пойдет, придется вам нас кормить в ваших тюрьмах, а там много лучше, чем на нашей соломке... А хотите оставаться хозяевами, так мы всегда будем врагами, — сегодня, как и тридцать лет назад. У вас — все, у нас — ничего, нельзя же еще требовать от нас и дружбы.
— Вот что называется открытым объявлением войны. — сказал генерал.
— Ваше сиятельство, — продолжал Фуршон, — когда Эги принадлежали бедняжке барышне (да помилует господь ее душу, потому, как говорят, она в молодости пожила в свое удовольствие), мы горя не знали. Она позволяла кормиться с ее полей и дровишки из ее леса таскать, бедней от этого она не стала! А вы хоть и не беднее ее, травите нас, ни дать ни взять как лютых зверей, и тягаете бедноту по судам!.. Ну, так вот, это кончится плохо! Быть из-за вас страшной беде. Я видел, как ваш лесник, мозгляк Ватель, чуть было не убил несчастную старуху из-за полена дров. Вас ославят врагом бедного люда, будут ругать на всех деревенских посиделках; будут так же проклинать, как благословляют покойную барышню! Проклятие бедноты, ваше сиятельство, быстро растет и вырастает много выше самых высоких ваших дубов, а из дубов делают виселицы... Никто здесь не говорит вам правды, — так вот вам эта самая правда! Я со дня на день смерти жду, мне терять нечего, ежели я ко всему прочему в придачу выложу вам правду!.. Под мою и Вермишелеву музыку по большим праздникам в «Кофейне мира» в Суланже пляшут крестьяне, и я слышу, что они промеж себя говорят. Ну так вот, они вас не очень-то жалуют, и вам здесь не житье. Если ваш проклятый Мишо не изменится, вас заставят его уволить... Надо думать, за мои советы да за выдрю стоит мне дать двадцать франков!..
В то время как старик произносил эту последнюю фразу, послышались приближающиеся мужские шаги, и тот, кому только что угрожал Фуршон, без доклада вошел в столовую. По взгляду, который Мишо метнул на защитника бедняков, легко было догадаться, что угроза дошла до его слуха, и вся смелость сразу слетела с Фуршона. Этот взгляд оказал на ловца выдр то же действие, что встреча с жандармом на вора. Фуршон знал, что проштрафился; Мишо, казалось, имел право потребовать у него отчета в словах, явно ставивших себе целью запугать обитателей Эгского замка.
— Вот наш военный министр, — сказал генерал, представляя Мишо журналисту.
— Простите, графиня, — сказал ей «министр», — что я прошел через гостиную, не осведомившись, угодно ли вам меня принять, но у меня неотложное дело к его превосходительству.
Принося извинение графине, Мишо в то же время наблюдал за Сибиле, который внутренне радовался дерзким речам Фуршона, но отражение этой радости на его лице ускользнуло от внимания сидевших за столом, всецело поглощенных Фуршоном, а Мишо, из тайных соображений постоянно наблюдавшего за Сибиле, поразило выражение его лица и весь его вид.
— Он прав, говоря, что заработал свои двадцать франков, ваше сиятельство, — воскликнул Сибиле. — Выдра обойдется вам недорого...
— Дай ему двадцать франков, — приказал генерал камердинеру.
— Вы, стало быть, отбираете у меня выдру? — спросил Блонде генерала.
— Я закажу из нее чучело! — заявил генерал.
— А ведь этот добрый барин обещал оставить мне шкурку, ваше сиятельство! — сказал дядя Фуршон.
— Хорошо, — воскликнула графиня, — вы получите еще пять франков за шкурку, а теперь уходите...
Изнеженное обоняние г-жи де Монкорне сильно страдало от крепкого, терпкого запаха, который шел от дяди Фуршона и Муша и отравлял воздух, и если бы эти двое бездомных бродяг задержались еще на некоторое время, она была бы вынуждена сама покинуть столовую. Именно этому неприятному запаху старик и был обязан двадцатью пятью франками. Он вышел, опасливо поглядывая на Мишо и отвешивая ему бесчисленные поклоны.
— А то, что я говорил их сиятельству, господин Мишо, — сказал Фуршон, — я говорил им же на пользу.
— Или тем, которые вам за это платят, — ответил Мишо, пронизывая его взглядом.
— Подайте кофе и можете идти, — сказал генерал слугам, — не забудьте только затворить двери.
Блонде, еще не имевший случая видеть начальника охраны Эгского поместья, испытывал, глядя на него, совершенно иное впечатление, нежели только что произведенное на него управляющим Сибиле. Насколько последний внушал ему отвращение, настолько же Мишо вызывал чувство уважения и доверия.
Начальник охраны привлекал к себе прежде всего красивым складом тонкого лица безупречно овальной формы, разделенного носом на две совершенно симметричные части, что редко встречается у французов. При всей правильности черт лицо его не было лишено выразительности, — быть может, благодаря гармоничности цвета лица, где преобладали смуглые и красноватые оттенки, свидетельствующие о действенном мужестве. Светло-карие живые и проницательные глаза не скрывали мысли и всегда прямо смотрели в лицо собеседнику. Высокий и чистый лоб оттеняли густые черные волосы. Честность, решительность и святая доверчивость одушевляли это прекрасное чело, на котором невзгоды солдатской жизни проложили морщины; на нем без труда можно было прочесть любое промелькнувшее подозрение или недоверчивость. Как все военные, принятые в отборную кавалерию, начальник охраны по своему еще тонкому и гибкому стану мог почитаться статным мужчиной. Мишо, носивший усы, бакенбарды и узкий ободок бороды, напоминал тот воинственный тип, который чуть было не превратился в карикатуру, так опошлил его безудержный поток патриотических рисунков и картин. Тип этот, на свое несчастье, стал обычным в рядах французской армии. Возможно также, что однообразие впечатлений, трудности бивуачной жизни, от которых не избавлены были ни высшие, ни низшие чины, и, наконец, тяготы войны, почти одни и те же у командиров и солдат, — возможно, что все это вместе выработало такое единообразие облика военных. Мишо носил синий мундир с черным атласным галстуком, высокие сапоги военного образца, и походка у него была соответственная, слегка деревянная. Плечи откинуты назад, грудь колесом, как будто он все еще в строю. В петлице у него рдела красная ленточка ордена Почетного легиона. Добавим один моральный штрих, который завершит этот чисто физический набросок: если управляющий Сибиле с момента своего вступления в должность не упускал случая титуловать своего патрона «ваше сиятельство», Мишо никогда не называл хозяина иначе как «ваше превосходительство».