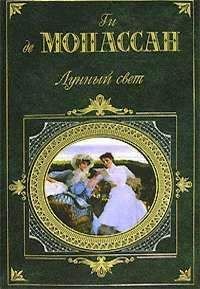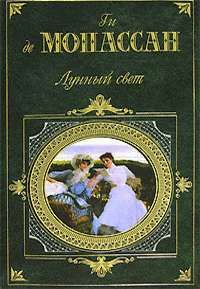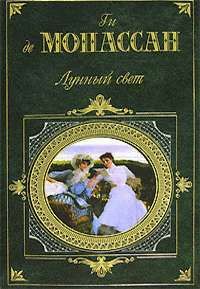Ги Мопассан - Наше сердце
Он с почтительным видом занял место возле г-жи де Бюрн, а Масиваль сел за рояль, и его пальцы пробежали по клавиатуре.
Почти все слушатели пересели, устроились поближе, чтобы лучше слышать и видеть певицу. Ламарт оказался плечом к плечу с Мариолем.
Наступила глубокая тишина, полная напряженного внимания, настороженности и благоговения; потом пианист начал с медленного, очень медленного чередования звуков, казавшегося музыкальным повествованием. Сменялись паузы, легкие повторы, вереницы коротких фраз, то изнемогающих, то нервных, тревожных, но неожиданно своеобразных. Мариоль погрузился в мечты. Ему представлялась женщина, царица Карфагена, прекрасная своей зрелой юностью и вполне расцветшей красотой, медленно идущая по берегу моря. Он понимал, что она страдает, что в душе ее – великое горе; и он всматривался в г-жу де Братиан.
Неподвижная, бледная под копной черных волос, как бы окрашенных ночным мраком, итальянка ждала, устремив вперед неподвижный взгляд. В ее энергичном, немного суровом лице, на котором темными пятнами выделялись глаза и брови, во всем ее мрачном облике, мощном и страстном, было что-то тревожное, как предвестие грозы, таящейся в сумрачном небе.
Масиваль, слегка покачивая кудрявой головой, продолжал рассказывать на звучных клавишах надрывающую сердце повесть.
Вдруг по телу певицы пробежал трепет; она приоткрыла рот и издала протяжный, душераздирающий вопль отчаяния. То не был крик трагической безнадежности, какие издают на сцене певцы, сопровождая их скорбными жестами, то не был и красивый стон обманутой любви, вызывающий в зале восторженные восклицания; это был вопль невыразимый, исторгнутый не душою, а плотью, похожий на вой раздавленного животного, – вопль покинутой самки. Потом она смолкла, а Масиваль все продолжал трепетную, еще более взволнованную, еще более мучительную повесть несчастной царицы, покинутой любимым человеком.
Затем снова раздался голос женщины. Теперь она говорила, она рассказывала о невыносимой пытке одиночества, о неутолимой жажде утраченных ласк и о мучительном сознании, что он ушел навсегда.
Ее теплый вибрирующий голос приводил сердца в трепет. Казалось, что эта мрачная итальянка с волосами темнее ночи выстрадала все, о чем она поет, что она любит или, по крайней мере, может любить с неистовым пылом. Когда она умолкла, ее глаза были полны слез; она не спеша стала вытирать их. Ламарт склонился к Мариолю и сказал, весь трепеща от восторга:
– Боже, как она прекрасна в этот миг, дорогой мой! Вот женщина, и другой здесь нет!
Потом, подумав, добавил:
– А впрочем, как знать. Быть может, это только мираж, созданный музыкой. Ведь, кроме иллюзии, ничего нет. Зато какое чудесное искусство – музыка! Как она создает иллюзии! И притом любые иллюзии!
В перерыве между первой и второй частями музыкальной поэмы композитора и певицу горячо поздравляли с успехом. Особенно восторгался Ламарт, и притом вполне искренне, потому что он был одарен способностью чувствовать и понимать и был одинаково чуток к любым проявлениям красоты. Он так пылко рассказал г-же де Братиан о том, что переживал, слушая ее, что она слегка покраснела от удовольствия, в то время как другие женщины, присутствовавшие при этом, испытывали некоторую досаду. Быть может, он и сам заметил, какое впечатление произвели его слова. Возвращаясь на свое место, он увидел, что граф Рудольф фон Бернхауз садится рядом с г-жой де Фремин. Она тотчас же сделала вид, что говорит ему что-то по секрету, и оба они улыбались, словно эта задушевная беседа привела их в полный восторг. Мариоль, все больше и больше мрачневший, стоял, прислонясь к двери. Писатель подошел к нему. Толстяк Френель, Жорж де Мальтри, барон де Гравиль и граф де Марантен окружили г-жу де Бюрн, которая стоя разливала чай. Она была как бы в венке поклонников. Ламарт иронически обратил на это внимание своего друга и добавил:
– Впрочем, венок без драгоценностей, и я уверен, что она отдала бы все эти рейнские камешки за один недостающий бриллиант.
– Какой бриллиант? – спросил Мариоль.
– Да Бернхауз! Прекраснейший, неотразимый, несравненный Бернхауз! Тот, ради которого и устроен сегодняшний концерт, ради которого было совершено чудо: Масиваля уговорили привезти сюда его флорентийскую Дидону.
При всем своем недоверии Андре почувствовал, что сердце его разрывается от горя.
– Давно она с ним знакома? – спросил он.
– О, нет, дней десять самое большее. Но какие усилия она сделала за эту краткую кампанию и какую развернула завоевательную тактику! Если бы вы были здесь – посмеялись бы от души!
– Вот как? Почему?
– Она встретила его в первый раз у г-жи де Фремин. В тот день я там обедал. К Бернхаузу в этом доме очень расположены, в чем вы можете убедиться, – достаточно взглянуть на него сейчас; и вот, едва они познакомились, как наш прелестный друг, госпожа де Бюрн, принялась пленять несравненного австрийца. И ей это удается, ей это удастся, хотя малютка де Фремин и превосходит ее циничностью, подлинным бездушием и, пожалуй, порочностью. Зато наш друг де Бюрн искуснее в кокетстве, она более женщина, – я хочу сказать: женщина современная, то есть неотразимая благодаря искусству пленять, которое теперь заменяет былое естественное очарование. И надо бы даже сказать, не искусство, а эстетика – глубокое понимание женской эстетики. Все ее могущество именно в этом. Она прекрасно знает самое себя, потому что любит себя больше всего на свете, и она никогда не ошибается в выборе средств для покорения мужчины, в том, как показать себя с лучшей стороны, чтобы пленить нас.
Мариоль стал возражать:
– Мне кажется, вы преувеличиваете; со мной она всегда держалась очень просто.
– Потому что простота – это прием, самый подходящий для вас. Впрочем, я не намерен о ней злословить; я нахожу, что она выше почти всех ей подобных. Но это вообще не женщины.
Несколько аккордов, взятых Масивалем, заставили их умолкнуть, и г-жа де Братиан спела вторую часть поэмы, где она предстала подлинной Дидоной, великолепной своей земною страстью и чувственным отчаянием.
Но Ламарт не отрывал глаз от г-жи де Фремин и графа фон Бернхауза, сидевших рядом. Как только последний звук рояля замер, заглушенный аплодисментами, он сказал раздраженно, словно продолжал какой-то спор, словно возражал противнику:
– Нет, это не женщины. Даже самые порядочные из них – ничтожества, сами того не сознающие. Чем больше я их узнаю, тем меньше испытываю то сладостное опьянение, которое должна вызывать в нас настоящая женщина. Эти тоже опьяняют, но при этом страшно возбуждают нервы; это не натуральное вино. О, оно превосходно при дегустации, но ему далеко до былого, настоящего вина. Дорогой мой, ведь женщина создана и послана в этот мир лишь для двух вещей, в которых только и могут проявиться ее подлинные, великие, превосходные качества: для любви и для материнства. Я рассуждаю, как господин Прюдом[10]. Эти же не способны на любовь и не желают детей; когда у них, по оплошности, родятся дети – это для них несчастье, а потом обуза. Право же, они чудовища.
Мариоль, удивленный резким тоном писателя и злобным огоньком, блестевшим в его глазах, спросил:
– Тогда почему же вы полжизни проводите возле них?
Ламарт ответил с живостью:
– Почему? Почему? Да потому, что это меня интересует. И наконец… Что же, вы запретите врачам посещать больницы и наблюдать болезни? Такие женщины – моя клиника, вот и все.
Это соображение, казалось, успокоило его. Он добавил:
– Кроме того, я обожаю их потому, что они вполне современны. В сущности, я в такой же мере мужчина, в какой они женщины. Когда я более или менее привязываюсь к одной из них, мне занятно обнаруживать и изучать все то, что меня от нее отталкивает, и я занимаюсь этим с тем же любопытством, с каким химик принимает яд, чтобы испробовать его свойства.
Помолчав, он продолжал:
– Поэтому я никогда не попадусь на их удочку. Я пользуюсь их же оружием, притом владею им не хуже, чем они, может быть, даже лучше, и это полезно для моих сочинений, в то время как им все то, что они делают, не приносит никакой пользы. До чего они глупы! Это все неудачницы, прелестные неудачницы, и тем из них, которые на свой лад чувствительны, остается только чахнуть с горя, когда они начинают стареть.
Слушая его, Мариоль чувствовал, как его охватывает грусть, гнетущая тоска, словно пронизывающая сырость ненастных дней. Он знал, что в общем писатель прав, но не хотел допустить, чтобы он был прав вполне.
Поэтому он стал, немного раздражаясь, спорить, не столько чтобы защитить женщин, сколько для того, чтобы выяснить, почему в современной литературе их изображают такими изменчиво-разочарованными.
– В те времена, когда романисты и поэты восхваляли их и возбуждали в них мечтательность, они искали и воображали, что находят, в жизни эквивалент того, что сердца их предугадывали по книгам. Теперь же вы упорно устраняете все поэтическое и привлекательное и показываете лишь отрезвляющую реальность. А если, друг мой, нет любви в книгах, – нет ее и в жизни. Вы создавали идеалы, и они верили в ваши создания. Теперь вы только изобразители правдивой действительности, и вслед за вами и они уверовали в пошлость жизни.