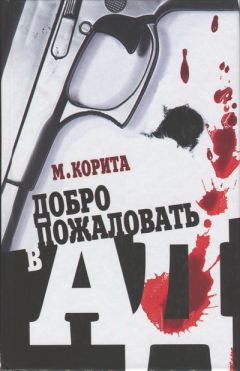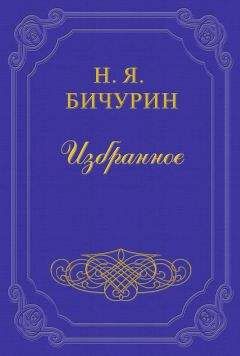Шарлотта Бронте - Учитель
— Тысячу благодарностей, мадемуазель, все прошло очень гладко.
Она посмотрела на меня с большим сомнением.
— Et les trois demoiselles du premir banc?[63]
— Ah! tout va au mieux![64] — был мой ответ, и м-ль Рюте больше об этом не расспрашивала; но глаза ее — не огромные, не сверкающие, не трогательные или воспламеняющие, но умные, цепкие, пронизывающие — показывали, что она прекрасно поняла меня; на миг они вспыхнули, словно сказав: «Что ж, скрывайте, сколько хотите, мне безразлична ваша искренность: все, о чем вы умалчиваете, я и так уже знаю».
Очень плавно и натурально поведение директрисы переменилось, беспокойная деловитость сошла с лица, и м-ль Рюте принялась болтать о погоде, о городе и по-соседски расспрашивать о мсье и мадам Пеле. Я отвечал ей; она все говорила и говорила, и я следовал за нею по лабиринту разговора; она сидела так долго, говорила так много, так часто меняла тему, что нетрудно было понять: задерживала она меня с особой целью. Простые слова ее не дали мне никакой нити к этой цели — совсем иначе ее лицо; в то время как губы произносили истертые любезности, глаза то и дело обращались на меня. Взглядывала она не прямо, не открыто (хотя и не украдкой), но очень быстро и спокойно. Я не упустил ни единого ее взгляда; я следил за ней так же настороженно, как и она за мной, и скоро догадался, что она прощупывает меня, выискивая сильные и слабые места, выведывая особенности моей природы; она явно рассчитывала в конце концов найти какую-нибудь щель, какую-нибудь ячейку, куда она смогла бы поставить свою маленькую уверенную ножку и, прижав меня, стать владычицей моего внутреннего мира. Не поймите меня превратно, читатель, она отнюдь не добивалась любовной власти — тогда ей требовалось лишь, так сказать, политическое могущество надо мной; я сделался учителем в ее пансионе, и ей необходимо было знать, в чем она меня превосходит и посредством чего может мною управлять.
Мне нравилась эта игра, и я не торопился из нее выйти; иногда я обнадеживал м-ль Рюте, начиная говорить что-либо вяло и неубедительно, и проницательные глаза ее уж загорались: она думала, что наконец поймала меня; и с каким удовлетворением, проведя ее немного по своей дорожке, я внезапно разворачивался и заканчивал фразу с жестким, непоколебимым здравым смыслом, отчего моя собеседница тут же менялась в лице.
Наконец вошла прислуга объявить, что обед подан. Таким образом, противостояние наше как нельзя кстати было нарушено, причем ни одна из сторон не добилась каких-либо преимуществ: м-ль Рюте даже не дала мне возможности ее атаковать, а мне удалось разбить все ее замыслы. Это было настоящее сражение с неясным исходом.
В дверях я снова протянул ей руку, она подала мне свою, маленькую, нежную — и такую холодную! Я устремил глаза на Зораиду, требуя ответного, открытого взгляда; последняя эта проверка была не в мою пользу: я увидел лишь трезвое спокойствие и сдержанность и был разочарован.
«Вот так и становишься мудрее, — размышлял я, возвращаясь в дом г-на Пеле. — Посмотри на эту маленькую женщину — похожа она на женщин из романов и сонетов? Судя по тому, как подана женская натура в поэзии и беллетристике, можно подумать, она сплошь состоит из чувств, и высоких и дурных. Но вот тебе экземпляр — и, надо сказать, весьма характерный и заслуживающий внимания, — чья основная составляющая — чистый рассудок. Талейран не был более бесстрастным, чем Зораида Рюте!» Так думал я тогда; позднее я осознал, что заглушать страсти есть, пожалуй, страсть самая стойкая и сильная.
ГЛАВА XI
Я действительно слишком заговорился с коварным маленьким политиком: по возвращении я обнаружил, что обед уж подходит к концу. Опаздывать к столу было против правил в заведении г-на Пеле, и если б кто-нибудь из наставников-фламандцев явился к столу, когда суп уже унесли и все приступили к следующему блюду, — г-н Пеле непременно отчитал бы этого несчастного при всех и, уж конечно, оставил бы его и без супа, и без второго; теперь же обходительный, но ревностный начальник лишь покачал головой, и, когда я занял свое место и развернул салфетку (при этом я пробурчал под нос свою еретическую молитву), он любезно отослал прислугу на кухню, чтобы тот принес мне тарелку «риréе aux carotteso»[65] (ибо день был постный), и, прежде чем убрали первое блюдо, распорядился оставить для меня порцию вяленой рыбы, из которой и состояло второе.
Когда обед закончился, мальчики унеслись играть; Кин и Вандам (наставники-фламандцы), конечно, двинулись за ними. Бедолаги! Если б не были они в моих глазах такими тупоумными, малодушными, такими безразличными ко всему на земле и небесах — я проникся бы к ним безмерной жалостью: ведь они обязаны были всегда и повсюду сопровождать этих несносных мальчишек; однако в данных обстоятельствах я не без самодовольства привилегированной персоны отправился в свою комнату, уверенный, что там меня ожидает если и не развлечение, то, по крайней мере, свобода; но, как это часто бывало и прежде, тем вечером мне не удалось так быстро раскрепоститься.
— Eh bien, mauvais sujet! — раздался сзади голос г-на Пеле, когда я уж занес ногу на первую ступеньку. — Oû allez-vous? Venez à la salle-à-manger, que je vous gronde un peu.[66]
— Прошу прощения, мсье, что припозднился, — сказал я, последовав за ним в его личную гостиную, — но тут не моя вина.
— Вот об этом мне и хотелось бы узнать, — ответил г-н Пеле, проведя меня в уютную комнату с дровяным камельком (печью они летом не пользовались).
Позвонив, он приказал кофе на двоих, и вскоре мы почти с английским комфортом устроились у камина, между нами стоял круглый столик, а на нем — кофейник, сахарница и две большие белые фарфоровые чашки. Пока г-н Пеле был занят тем, что выбирал себе сигару из коробки, мысли мои обратились к двоим учителям-париям, чьи голоса слышались и теперь: бедняги взывали к порядку на школьном дворе.
— C'est une grande responsabilité, que la surveillance,[67] — заметил я.
— Plaît-il?[68] — отозвался г-н Пеле.
Я сказал, что, надо полагать, г-на Вандама и г-на Кина такие труды порою утомляют.
— Des bêtes de somme, des bêtes de somme,[69] — пробормотал насмешливо директор.
Я налил ему кофе.
— Servez-vous, mon garçon,[70] — сказал он ласково, когда я положил в его чашку два огромных куска континентального сахара. — А теперь расскажите-ка, почему вы так долго пробыли у мадемуазель Рюте. Ведь уроки в ее пансионе заканчиваются, как и у меня, в четыре, а сюда вы прибыли уже после пяти.
— Мадемуазель желала побеседовать со мной, мсье.
— В самом деле? А о чем, если позволите?
— Мадемуазель говорила о разных пустяках.
— Благодатная тема! И распространялась она прямо в классе, перед ученицами?
— Отнюдь. Как и вы, мсье, она пригласила меня в гостиную.
— И мадам Рюте — эта старая дуэнья, наперсница моей матушки, разумеется, была там?
— Нет, мсье. Я удостоился чести быть наедине с мадемуазель.
— C'est joli — cela,[71] — улыбнулся г-н Пеле и уставился на огонь.
— Honni soit qui mal у pense,[72] — произнес я со значением.
— Je connais un peu ma petite voisine, voyez-vous.[73]
— В таком случае для мсье не составит труда помочь мне выяснить, из каких соображений мадемуазель заставила меня сидеть перед нею битый час и слушать обширный трактат ни о чем.
— Она зондировала ваш характер.
— Так я и решил, мсье.
— Она нашла ваше слабое место?
— А какое у меня слабое место?
— Как! Сентиментальность. Всякая женщина, вонзая свое копье все глубже, наткнется наконец на бездонный источник чувствительности в любой груди, Кримсворт.
Я почувствовал, как кровь во мне забурлила и прилила к щекам.
— Некоторые женщины, возможно, мсье.
— А мадемуазель Рюте не из их числа? Давайте, говорите как есть, mon fils. Elle est encore jeune, plus âgée que toi peut-être, mais juste assez pour unir la tendresse d'une petite maman à l'amour d'une épouse dévouée; n'est-ce pas que cela t'irait supérieurement?[74]
— Нет, мсье, я бы предпочел, чтобы моя жена была женой, а не наполовину моей матерью.
— Значит, для вас она слишком стара?
— Нет, мсье, ничуть — если б она устраивала меня в вещах совсем иного рода.
— А в чем она вас не устраивает, Уильям? По-моему, она хороша.
— Очень. Ее волосы и цвет лица приводят меня в восхищение, и сложение ее, хотя совершенно бельгийское, исполнено изящества.
— Браво! А лицо ее? Черты? Как они вам?
— Немного суровые, особенно рот.
— О да! Ее рот, — подхватил г-н Пеле и хохотнул себе под нос. — В нем чувствуется характер, твердость. Но у нее очень милая улыбка, вы не находите?
— Скорее лукавая.
— Точно, но лукавое выражение идет у нее от бровей — вы обратили на них внимание?
Я отвечал, что нет.
— Значит, вы не видели ее с опущенными глазами?