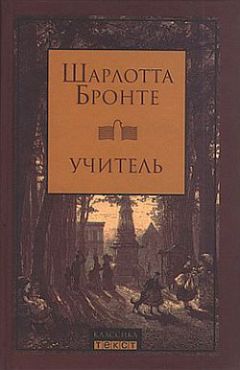Шарлотта Бронте - Джейн Эйр
– Миссис Рид, жена моего дяди. Мой дядя умер и перед смертью поручил меня ее попечению.
– Так, значит, она приютила тебя не по собственному желанию?
– Да, сударыня. И ей это очень не нравилось, но я часто слышала от слуг о том, как дядя взял с нее торжественную клятву всегда обо мне заботиться.
– Так вот, Джейн, как тебе известно – а если нет, я тебе объясню, – обвиняемому всегда позволяют защищаться. Тебя обвинили во лживости, так оправдай себя передо мной, насколько в твоих силах. Расскажи все, что тебе представляется правдой. Но ничего не добавляй и ничего не преувеличивай.
В глубине сердца я решила, что буду говорить спокойно, не увлекаясь, и, собравшись с мыслями, чтобы понятнее изложить свою историю, я рассказала ей о моем тоскливом детстве. Измученная недавней бурей чувств, я говорила без горячности, которую обычно пробуждала во мне эта тема, помнила, как Хелен советовала не поддаваться ненависти, и в моих словах было куда меньше привычных желчи и злобы. Сдержанность и простота придали моей повести больше убедительности. И мало-помалу я почувствовала, что мисс Темпл мне верит.
Упомянула я и о том, как мистер Ллойд навестил меня после припадка: я ведь не забыла такие для меня страшные часы, проведенные в Красной комнате. И, рассказывая о них, я вновь пришла в волнение, потому что даже в воспоминаниях ничто не могло смягчить агонию в моем сердце, когда миссис Рид презрела мои мольбы о пощаде и во второй раз заперла меня в темной комнате с привидением.
Я кончила свой рассказ. Мисс Темпл некоторое время смотрела на меня молча, а потом сказала:
– Я немного знакома с мистером Ллойдом и напишу ему. Если его ответ подтвердит твои слова, ты будешь публично очищена от всех обвинений. Но в моих глазах, Джейн, ты уже чиста.
Она поцеловала меня и, все еще удерживая рядом с собой (но теперь я была рада стоять там, потому что испытывала детское удовольствие от созерцания ее лица, ее платья, одного-двух украшений, белого лба, собранных в букли глянцевых кудрей и лучистых темных глаз), обратилась к Хелен Бернс:
– Как ты себя чувствуешь сегодня вечером, Хелен? Днем ты много кашляла?
– Мне кажется – нет, сударыня.
– А боли в груди?
– Немного легче.
Мисс Темпл встала, взяла ее руку и пощупала пульс, потом опустилась в свое кресло, и я услышала ее тихий вздох. Несколько минут она просидела в задумчивости, затем очнулась и сказала весело:
– Но вы обе сегодня мои гостьи, и мне следует принять вас, как положено. – Она тряхнула колокольчиком и сказала вошедшей служанке: – Барбара, я еще не пила чай. Принесите поднос и поставьте две чашки для барышень.
Поднос появился очень скоро. Какими красивыми казались мне фарфоровые чашки и ярко расписанный чайник с заваркой на круглом столике у камина! Каким душистым был пар, как вкусно пахнул поджаренный хлеб! Однако, к моему отчаянию (потому что я уже сильно проголодалась), его ломтиков было очень мало. Мисс Темпл тоже это заметила.
– Барбара, – сказала она, – вы не принесете еще хлеба с маслом? Этого на троих недостаточно.
Барбара вышла, но скоро вернулась со словами:
– Сударыня, миссис Харден говорит, что хлеба положила как обычно.
(Миссис Харден, следует объяснить, была экономка, женщина очень по душе мистеру Броклхерсту, в равных долях сотворенная из китового уса и железа.)
– Ну что же! – ответила мисс Темпл. – Видимо, Барбара, нам придется обойтись этим. – А когда служанка ушла, она добавила с улыбкой: – К счастью, на этот раз у меня найдется для вас другое угощение.
Пригласив нас с Хелен к столику и поставив перед нами по чашке с чаем и положив по одному восхитительному, но, увы, такому тоненькому поджаренному ломтику, она встала, отперла ящик и, достав из него бумажный сверток, вскоре явила нашим глазам внушительный тминный кекс.
– Я собиралась дать вам по куску с собой, – сказала она, – но, раз хлеба так мало, вы получите их теперь. – И она нарезала кекс щедрой рукой.
В этот вечер мы ублажались нектаром с амброзией, и пиршество это дополняла благожелательная улыбка, с которой мисс Темпл наблюдала, как мы утоляем голод яствами, которыми она радушно угостила нас. Когда чай был допит и поднос унесен, она вновь подозвала нас к огню. Мы сели справа и слева от нее, и они с Хелен начали беседу, слушать которую было большой привилегией. Облик мисс Темпл, выражение ее лица всегда отличало некое величавое спокойствие, а ее речи была свойственна изысканная правильность, которая исключала запальчивость, волнение, увлеченность, и это нечто сдерживало восторг тех, кто смотрел на нее и слушал ее, добавляя к нему почтительное благоговение. Именно таковы были мои чувства, но Хелен Бернс изумила меня.
Подкрепляющая еда, яркий огонь, присутствие и доброта любимой наставницы, а возможно, сверх того, ее собственный необычный ум пробудили ее духовные силы. Они проснулись, они воспряли, они окрасили румянцем ее лицо, которое до той минуты я видела всегда бледным и бескровным. Затем они засияли в ее оживившихся глазах, которые вдруг превзошли красотой глаза мисс Темпл. И это была красота не их чудесного цвета, не длинных ресниц, не тонких бровей, но прелести, блеска, света мысли. Душа ее раскрылась, и речь потекла свободно, не знаю из какого истока. Может ли сердце четырнадцатилетней девочки быть настолько большим и настолько сильным, чтобы вместить родник чистого, убедительного, пылкого красноречия? Вот чем поразила меня Хелен в тот достопамятный вечер: ее дух словно торопился прожить за краткий срок не менее, чем другие проживают за долгую жизнь.
Они говорили о вещах, о которых я не имела ни малейшего понятия. О народах и давних временах, о дальних странах, о тайнах природы, открытых или пока не разгаданных. Они говорили о книгах. Как много они читали! Какими сокровищами знаний обладали! И были так хорошо знакомы с Францией и французскими авторами. Однако мое изумление достигло предела, когда мисс Темпл осведомилась у Хелен, удается ли ей выбирать минутку, чтобы освежать латынь, которой ее учил отец, и, взяв с полки книгу, попросила ее прочесть и перевести страницу из Вергилия. Хелен начала читать, и моя шишка почтительного благоговения увеличивалась с каждой звучной строкой. Едва она кончила, как колокол возвестил час отхода ко сну. Никакие отсрочки не допускались. Мисс Темпл поцеловала нас обеих и, привлекая к своему сердцу, сказала:
– Бог да благословит вас, мои дети!
Хелен она задержала в объятиях чуть дольше, чем меня, разжала руки с большой неохотой. До дверей ее глаза провожали Хелен, из-за нее она опять грустно вздохнула, из-за нее утерла слезу со щеки.
Подходя к дортуару, мы услышали голос мисс Скэтчерд. Проверяя наши ящики, она как раз выдвинула ящик Хелен Бернс, и, когда мы вошли, Хелен была встречена строгим выговором, а также обещанием, что завтра к ее плечу пришпилят полдюжины неаккуратно сложенных платков и прочего.
– Мои вещи, правда, в недозволительном беспорядке, – вполголоса сказала мне Хелен. – Я собиралась прибраться в ящике, но забыла.
Утром мисс Скэтчерд крупными буквами написала на полоске картона «Неряха» и словно повязку со словами Завета наложила ее на высокий, нежный, умный, добрый лоб Хелен. И Хелен носила эту надпись до вечера – терпеливо, без возмущения, считая такое наказание заслуженным. Едва мисс Скэтчерд удалилась после дневных уроков, как я подбежала к Хелен, сорвала картонку с ее лба и сунула в огонь: в моей груди с утра кипела ярость, на которую сама она была не способна, и крупные горячие слезы все время обжигали мои щеки. Ее покорное смирение терзало мне сердце невыносимой болью.
Примерно через неделю после событий, о которых говорилось выше, мисс Темпл получила от мистера Ллойда ответ на свое письмо, и, видимо, то, что он написал, подтверждало мой рассказ. Мисс Темпл собрала всех воспитанниц и объявила, что обвинения против Джейн Эйр были тщательно проверены и она счастлива сообщить, что все они полностью опровергнуты. После чего учительницы пожали мне руку и поцеловали меня, а по рядам моих товарок прокатился одобрительный ропот.
Так, избавленная от невыносимого бремени, я с этого часа вновь принялась усердно заниматься, твердо решив преодолевать все трудности на своем пути. Я трудилась настойчиво, и мои успехи были пропорциональны моим усилиям. Моя память, от природы не очень цепкая, заметно улучшилась от постоянных упражнений. Недели две спустя меня перевели в следующий класс, и даже менее чем через два месяца мне было разрешено учиться рисованию и французскому. Я выучила первые два времени глагола «être»[2] и в тот же самый день нарисовала мой первый фермерский домик (стены которого, между прочим, превзошли наклоном падающую Пизанскую башню). Вечером, когда я легла спать, то забыла приготовить в воображении лукуллов пир из горячей жареной картошки или из белого хлеба и парного молока, каким обычно заглушала голод. Вместо этого я упивалась зрелищем безупречных рисунков, которые виделись мне в темноте. Все они были моими: столь изящно написанные дома и деревья, живописные скалы и развалины, пасущиеся коровы в стиле Кейпа, прелестные бабочки, порхающие над полураспустившимися розами, пичужки, клюющие спелые вишни, гнезда овсянок с перламутровыми яичками в сплетении молодых побегов плюща. И еще я с надеждой думала, а вдруг я когда-нибудь сумею прочесть книжечку французских сказок, которую мне показала мадам Пьеро. Так и не поверив в это окончательно, я сладко уснула.
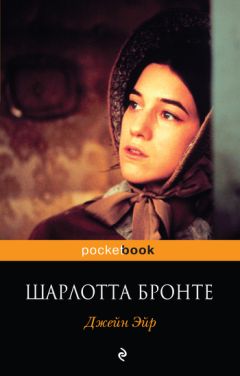
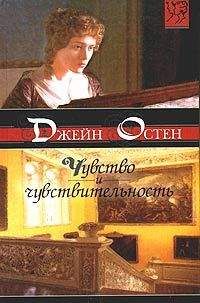
![Джейн Остен - Чувство и чувствительность [Разум и чувство]](/uploads/posts/books/136075/136075.jpg)