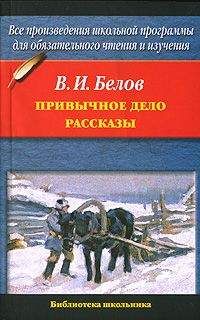Василий Белов - ЛАД
Неподдельное и самое тесное общение с природой (вернее, не общение, а слитность, которая сводит на нет ужас небытия, смерти, исчезновения), соперничество с природой, радость узнавания, риск, физическая закалка, какое-то странное самораскрытие и самоутверждение — все это и еще многое другое испытывают охотник и рыболов.
В предвкушении тех испытаний человек может стоически, целыми вечерами вязать сеть, добывать в глубоком снегу еловые колышки для вершей, сучить бесконечную льняную нить.
Инструмент вязальщика прост и бесхитростен. Это, во-первых, раздвоенный копыл наподобие женской прялки, во-вторых, берце, или берцо, — дощечка, от ширины которой зависит ширина ячеи и на которую вяжутся петли. Наконец, плоская можжевеловая игла с прорезью, куда наматывается нить.
Вязали дети и старики, подростки и здоровые бородатые мужики. Вязали в первое же выдавшееся свободное время, используя непогоду или межсезонье, устраивали даже посиделки с вязанием. Лишь уважающие себя женщины избегали такого вязания. Они смотрели на это занятие с почтением, но слегка насмешливо. А почему, будет понятно, если мы поближе познакомимся с чисто женским художественным творчеством, которое как бы завершает весь сложный и долгий путь льна — спутника женской судьбы. Конец — делу венец. Художественное тканье, плетенье, вязанье, вышивка венчают льняной цикл, выводя дело человеческих рук из временной годовой зависимости очень часто даже за пределы человеческой жизни.
НЕЗРИМЫЕ ЛАВИНКИ. Образ реки в народной поэзии так стоек, что с отмиранием одного жанра тотчас же поселяется в новом, рожденном тем или другим временем. Как и всякий иной, этот образ неподвластен анализу, разбору, объяснению. Впрочем, анализируй его сколько хочешь, разбирай по косточкам и объясняй сколько угодно — он не будет этому сопротивляться. Но и никогда не раскроется до конца, всегда оставит за собой право жить, не поддастся препарированию, удивляя своего потрошителя новыми безднами необъяснимого.
Он умрет тотчас после того, как станет понятным и объясненным, но, к счастью, такого не случится, потому что его нельзя до конца объяснить и понять рациональным коллективным умом. Образ жив, пока жива человеческая индивидуальность. Он, образ, страдает, когда его воспринимают или воспроизводят одинаково двое. А когда к этим двоим бездумно подключается еще и третий, художественному образу становится явно не по себе. От нетворческого и частого повторения он исчезает, оставляя вместо себя штамп.
Но какая же там одинаковость восприятия, если в народе есть мужчины и женщины, девушки и ребята, дети и старики, красивые и не очень, больные и здоровые, преуспевающие и терпящие лишения, ленивые, сильные и т. д. Если в природе все время происходят изменения: то тепло, то холод, то дождик, то снег, а жизнь стремительна, и вчерашний день так не похож на сегодняшний, и годы никогда не повторяют друг дружку.
Река течет. Она то мерцает на солнышке, то пузырится на дождике, то покрывается льдом и заносится снегом, то разливается, то ворочает льдинами.
Рыбы нерестятся на месте предстоящих покосов, а там, где сегодня скрипит коростель, еще недавно завывала метель.
Что-то родное, вечно меняющееся, беспечно и непрямо текущее, обновляющееся каждый момент и никогда не кончающееся, связующее ныне живущих с уже умершими и еще не рожденными, мерещится и слышится в токе воды. Слышится всем. Но каждый воспринимает образ текущей воды по-своему.
Образ дороги не менее полнокровен в народной поэзии.
А нельзя ли условиться и хотя бы ненадолго представить эмоциональное начало речкой, а рациональное — дорогой? Ведь и впрямь: одна создана самою природой, течет испокон, а другая сотворена людьми для жизни насущной.
Человеку все время необходимо было идти (хотя бы и за грибами), нужно было ехать (например, за сеном), и он вытаптывал тропу, ладил дорогу. Нередко дорога эта бежала по пути с речною водой…
Дорога стремилась быть короче и легче, да к тому же тот берег почему-то всегда казался красивей и суше. Не раз и не два ошибалась дорога, удлиняя свой путь, казалось бы, совсем неуместными переправами! Но от этих ошибок нередко душа человеческая выигрывала нечто более нужное и неожиданное.
Незримые лавы ложились как раз на пересечениях материального и духовного, обязательного и желаемого, красивого и необходимого. Чтобы это понять, достаточно вспомнить, что большинство предметов народного искусства были необходимы в жизни как предметы быта или же как орудия труда.
Вот некоторые из них: разные женские трепала, керамическая и деревянная посуда, ковши и солоницы в виде птиц, розетки на деревянных блоках кросен, кованые светцы, литые и гнутые подсвечники и т. д. и т. п.
Естественный крюк (вырубленная с корнем ель), поддерживающий деревянный лоток на крыше, несколькими ударами топора плотник превращал в изящную курицу; всего два-три стежка иглой придавали элегантность рукаву женской одежды. Стоило гончару изменить положение пальцев, как глиняный сосуд приобретал выразительный перехват, удлинялся или раздвигался вширь.
Неуловима, ускользающе неопределенна граница между обычным ручным трудом и трудом творческим. Мастеру и самому порой непонятно: как, почему, когда обычный комок глины превратился в красивый сосуд. Но во всех народных промыслах есть этот неуловимый переход от обязательного, общепринятого труда к труду творческому, индивидуальному.
Художественный образ необъясним до конца, он разрушается или отодвигается куда-то в сторону от нас при наших попытках разъять его на части. Точно так же необъясним и характер перехода от труда обычного к творческому.
По-видимому, однообразие, или тяжесть, или монотонность труда толкают работающего к искусству, заставляют разнообразить не только сами изделия, но и способы их изготовления. Кроме того, для северного народного быта всегда было характерно соревнование, причем соревнование не по количеству, а по качеству. Хочется выйти на праздник всех наряднее, всех «баще» — изволь прясть и ткать не только много, но и тонко, ровно, то есть красиво; хочешь прослыть добрым женихом — руби дом не только прочно, но и стройно, не жалей сил на резьбу и причелины. Получается, что красота в труде, как и красота в плодах его, — это не только разнообразие (не может быть «серийного» образа), но еще и самоутверждение, отстаивание своего «я», иначе говоря, формирование личности.
Умение, мастерство и, наконец, искусство живут в пределах любого труда. И конечно же, лишь в связи с трудом и при его условии можно говорить о трех этих понятиях.
Художника, равного по своей художественной силе Дионисию, с достаточной долей условности можно представить вершиной могучей и необъятной пирамиды, в основании которой покоится общенародная, постоянно и ровно удовлетворяемая тяга к созидающему труду, зависимая лишь от физического существования самого народа.
Итак, все начинается с неудержимого и необъяснимого желания трудиться… Уже само это желание делает человека, этническую группу, а то и целый народ предрасположенными к творчеству и потому жизнеспособными. Такому народу не грозит гибель от внутреннего разложения. Творческое начало обусловлено желанием трудиться, жаждой деятельности.
В жизни северного русского крестьянина труд был самым главным условием нравственного равноправия. Желание трудиться приравнивалось к умению. Так поощряюще щедра, так благородна и проста была народная молва, что неленивого тотчас, как бы загодя, называли умельцем. И ему ничего не оставалось делать, как побыстрее им становиться. Но быть умельцем — это еще не значит быть мастером. И художником (в нашем современном понимании). Умельцами должны были быть все поголовно. Стремление к высшему в труде не угасало, хоть каждый делал то, что было ему по силам и природным способностям. И то и другое было разным у всех людей. Почти все умельцы становились подмастерьями, но только часть из них — мастерами.
Легенда о «секретах», которые мастера якобы тщательно хранили от посторонних, придумана ленивыми либо бездарными для оправдания себя. Никогда русские мастера и умельцы, если они подлинные мастера и умельцы, не держали втуне свое умение! Другое дело, что далеко не каждому давалось это умение, а мастер был строг и ревнив. Он позволял прикасаться к делу лишь человеку, истинно заинтересованному этим делом, терпеливому и не балаболке. И если уж говорить честно, то вовсе не своекорыстие двигало мастером, когда он замыкал уста.
По древнему поверью (вспомним Н. В. Гоголя), клады легче даются чистым рукам. Секрет мастерства — это своеобразный клад, доступный бессребренику, честному и бескорыстному работнику. Но ведь многие люди судят о других по себе! Стяжателю всегда кажется, что мастер трудится так тщательно и упорно из-за денег, а не из-за любви к искусству. Бездарному и ленивому и вовсе не понятно, почему человек может не часами и даже не днями, а неделями трудиться над каким-нибудь малым лукошком. У него не хватает терпения понять даже смысл самого терпения, и вот он оскорбляет мастера подозрением в скаредности и в нежелании поделиться секретом мастерства. Незащищенность мастера (художника) усугублялась еще и тем, что за красивые или добротно сделанные вещи люди и платят больше. Разумеется, мастер не отказывался от денег: у него и семья и дети. Само искусство тоже требовало иногда немалых средств: надо купить краски, добротное дерево, кость и т. д. Но смешно думать, что мастером или художником движет своекорыстие! Парадокс заключается в том, что чем меньше художник или мастер думает о деньгах, тем лучше, а следовательно, и ценнее он производит изделия и тем больше бывает у него и… денег. Конечно, бывали и такие художники и мастера, которые намеренно начинали этим пользоваться. Но талант быстро покидал таковых.