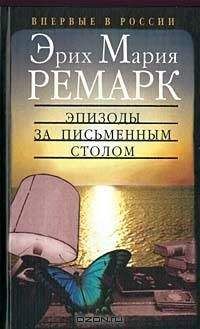Эрих Ремарк - Тени в раю
— Не знал, что от этого невозможно отделаться, — пробормотал Кан.
— Только нам так плохо?
— Всем. После того как улетучивается первое, поверхностное чувство защищенности и ты перестаешь играть сам с собою в прятки и вести страусову политику, тебя настигает опасность. Она тем больше, чем защищенной чувствует себя человек. Завидую тем, кто, подобно неунывающим муравьям, сразу же после грозы начинает строить заново, вить гнездышко, строить собственное дело, семью, будущее. Самой большой опасности подвергаются люди, которые ждут.
— И вы ждете?
Кан посмотрел на меня с насмешкой.
— А разве вы, Росс, не ждете?
— Жду, — сказал я, помолчав немного.
— Я тоже. Почему, собственно?
— Я знаю почему.
— У каждого свои причины. Боюсь только, что когда война кончится, причины эти испарятся, как вода на горячей плите. И мы опять потеряем несколько лет, прежде чем начнем все сначала. Другие люди обгонят нас за эти несколько лет.
— Какая разница? — спросил я с удивлением. — Жизнь ведь — не скачка с препятствиями.
— Вы думаете? — спросил Кан.
— Дело не в соперничестве. Вернуться хочет большинство. Разве я не прав?
— По-моему, ни один человек не знает этого точно. Некоторым необходимо вернуться. Например, актерам. Здесь их ничего не ждет, они никогда не выучатся как следует говорить по-английски. Писателям тоже. В Штатах их не будут читать. Но у большинства причина совсем иная. Неодолимая, дурацкая тоска по родине. Вопреки всему. Черт бы ее подрал.
— Эдакую слепую любовь к Германии я наблюдал, — сказал я. — В Швейцарии. У одного еврея, коммерции советника. Я хотел стрельнуть у него денег. Но денег он мне не дал, зато дал добрый совет — вернуться в Германию. Газеты, мол, врут. А если кое-что и правда, то это временное явление, совершенно необходимые строгости. Лес рубят — щепки летят. И потом, сами евреи во многом виноваты. Я сказал, что сидел в концлагере. И тогда он разъяснил мне, что без причины людей не сажают и что самый факт моего освобождения — еще одно доказательство справедливости немцев.
— Этот тип людей мне знаком, — сказал Кан, нахмурившись. — Их не так уж много, но они все же встречаются.
— Даже в Америке. — Я вспомнил своего адвоката. — Кукушка, — сказал я.
Кан засмеялся.
— Кукушка! Нет ничего хуже дураков. Пошли они все к дьяволу!
— Наши дураки тоже.
— В первую очередь — наши. Но, может, мы, не смотря на все, отведаем крабов?
Я кивнул.
— Позвольте мне пригласить вас, уже сама возможность пригласить кого-нибудь в ресторан повышает тонус и избавляет от комплекса неполноценности. Ты перестаешь чувствовать себя профессиональным нищим. Или благородным паразитом, если хотите.
— Ничто не может избавить от комплекса вины за то, что ты жив, от комплекса, внушенного нам нашим возлюбленным отечеством. Но я принимаю ваше приглашение. И позвольте мне в свою очередь угостить вас бутылочкой нью-йоркского рислинга. На короткое время мы снова почувствуем себя людьми.
— По-вашему, мы здесь не люди?
— Люди на девять десятых.
Кан вытащил из кармана розовую бумагу.
— Паспорт! — с благоговением сказал я.
— Нет. Удостоверение для иностранцев, подданных вражеского государства. Вот кто мы здесь.
— Стало быть, все еще люди неполноценные, — сказал я, раскрывая огромное меню.
Вечером мы отправились к Бетти Штейн. Она осталась верна берлинскому обычаю. По четвергам к ней приходили вечером гости. Все, кто желал. А тот, у кого завелось немного денег, приносил бутылку вина, пачку сигарет или банку консервированных сосисок. У Бетти был патефон и старые пластинки. Песни в исполнении Рихарда Таубера и арии из оперетт Кальмана, Легара и Вальтера Колло. Иногда кто-нибудь из поэтов читал свои стихи. Но большую часть времени в салоне Бетти спорили.
— У нее благие намерения, — сказал Кан. — И все равно это — морг, где среди мертвецов бродят живые, вернее, полутрупы, которые еще сами не осознали этого.
Бетти была в старом шелковом платье, сшитом еще в догитлеровские времена. Платье было ярко-лиловое, все в оборках, оно шуршало и пахло нафталином. Румяные щеки, седина и блестящие темные глаза Бетти никак не вязались с этим туалетом. Бетти протянула нам навстречу свои пухлые руки. В ней было столько сердечности, что в ответ можно было только беспомощно улыбнуться и сказать, что она трогательная и главная. Бетти нельзя было не любить. Она вела себя так, словно в 1933 году время остановилось. Действительность существовала во все дни недели, но «четвергов» Бетти она не коснулась. По четвергам были опять Берлин и Веймарская конституция, оставшаяся в полной силе. В большой комнате, завешанной портретами покойников, было довольно много народа. Актер Отто Вилер стоял в кругу почитателей.
— Он завоевал Голливуд! — восклицала Бетти с гордостью. — Добился признания.
Вилер явно не возражал против чествования.
— Какую роль ему дали? — спросил я Бетти. — Отелло? Одного из братьев Карамазовых?
— Огромнейшую роль. Не знаю, какую точно. Но он всех заткнет за пояс! Его ждет слава Кларка Гейбла.
— Или Чарльза Лаутона, — ввернула племянница Бетти, высохшая старая дева, которая разливала кофе. — Скорее Чарльза Лаутона. Он ведь характерный актер.
Кан язвительно усмехнулся.
— Роль не такая уж грандиозная, — сказал он, — да и сам Вилер не был в Европе таким уж грандиозным актером. Помните историю о том, как один человек пошел в Париже в ночное кабаре русских эмигрантов? Владелец кабаре решил произвести на него впечатление. Поэтому он сказал: наш швейцар был раньше генералом, официант у нас граф, этот певец — великий князь и так далее и так далее. Гость молча слушал. Наконец владелец вежливо спросил, указывая на маленькую таксу, которую тот держал на поводке: «Будьте добры сказать, какой породы ваша собачка?» «Моя собачка, — ответил посетитель, была в свое время в Берлине огромным сенбернаром», — Кан грустно улыбнулся. — Вилер на самом деле получил маленькую роль. Он играет в одном второсортном фильме нациста, эсэсовца.
— Неужели? Но ведь он еврей.
— Ничего не значит. Пути Голливуда неисповедимы. Да и там, видимо, считают, что эсэсовцы и евреи — на одно лицо. Вот уже четвертый раз, как роль эсэсовца исполняет еврей. — Кан засмеялся. — Своего рода справедливость искусства. Гестапо косвенным образом спасает одаренных евреев от голодной смерти.
Бетти сообщила, что в этот вечер проездом в Нью-Йорке будет доктор Грефенгейм. Многие присутствовавшие знали его: он был знаменитым берлинским гинекологом. Одно из противозачаточных средств назвали его именем. Кан познакомил меня с ним. Грефенгейм был скромный худощавый человек с темной бородкой.
— Где вы работаете? — спросил его Кан. — Где практикуете?
— Практикую? — удивился Грефенгейм. — Я еще не сдал экзаменов. Трудновато. А вы могли бы снова сдать на аттестат зрелости?
— Разве от вас этого требуют?
— Надо сдавать все с самого начала. И еще английский язык.
— Но ведь вы были известным врачом. Вас наверняка знают. И если в Штатах существуют такие правила, для вас должны сделать исключение.
Грефенгейм пожал плечами.
— Это не так. Наоборот, по сравнению с американцами нас ставят в более трудные условия. Вы ведь сами знаете, как все обстоит. Правда, специальность врача такова, что он спасает чужую жизнь. Но, вступив в свои ферейны и клубы, врачи защищают собственную жизнь и не допускают в свою среду чужаков. Вот нам и приходится вторично сдавать экзамены. Нелегкое дело — экзаменоваться на чужом языке. Мне ведь уже за шестьдесят. Грефенгейм виновато улыбнулся. — Надо было учить языки. Впрочем, всем нам несладко живется. А потом я еще должен год проходить стажировку в качестве ассистента. Но при этом я буду по крайней мере иметь бесплатное питание в больнице и крышу над головой…
— Вы можете сказать нам всю правду, — решительно прервала его Бетти. Кан и Росс вас поймут. Дело в том, что его обобрали. Один подонок, тоже эмигрант, обобрал его.
— Послушайте, Бетти.
— Да. Нагло ограбил. У Грефенгейма была ценнейшая коллекция марок. Часть этой коллекции он отдал приятелю, который уже давно выехал из Германии. Тот должен был сохранить марки. Но когда Грефенгейм прибыл сюда, приятеля как подменили. Он заявил, что ровно ничего не получал от Грефенгейма.
— Старая история! — сказал Кан. — Обычно, впрочем, утверждают, что переданные вещи были отняты на границе.
— Тот тип оказался хитрее. Ведь иначе он признал бы, что получил марки. И, стало быть, у Грефенгейма появилось бы все же некоторое основание требовать возмещение убытков.
— Нет, Бетти, — сказал Кан. — Никаких оснований. Вы ведь не брали расписку? — спросил он Грефенгейма.
— Разумеется, не брал. Это было исключено, такие передачи совершались с глазу на глаз.