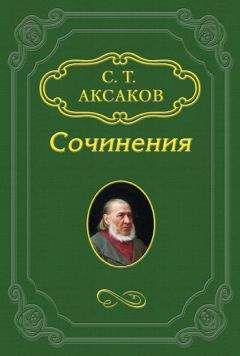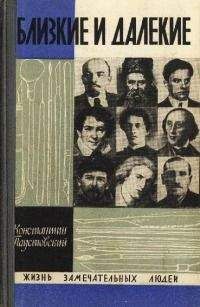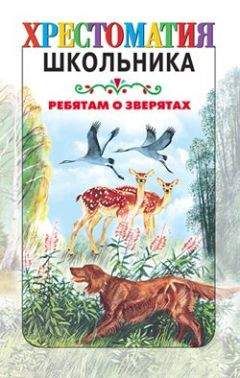Лев Толстой - Анна Каренина
Место это давало от семи до десяти тысяч в год, и Облонский мог занимать его, не оставляя своего казенного места. Оно зависело от двух министерств, от одной дамы и от двух евреев; и всех этих людей, хотя они были уже подготовлены, Степану Аркадьичу нужно было видеть в Петербурге. Кроме того, Степан Аркадьич обещал сестре Анне добиться от Каренина решительного ответа о разводе. И, выпросив у Долли пятьдесят рублей, он уехал в Петербург.
Сидя в кабинете Каренина и слушая его проект о причинах дурного состояния русских финансов, Степан Аркадьич выжидал только минуты, когда тот кончит, чтобы заговорить о своем деле и об Анне.
– Да, это очень верно, – сказал он, когда Алексей Александрович, сняв pince-nez, без которого он не мог читать теперь, вопросительно посмотрел на бывшего шурина, – это очень верно в подробностях, но все-таки принцип нашего времени – свобода.
– Да, но я выставляю другой принцип, обнимающий принцип свободы, – сказал Алексей Александрович, ударяя на слове «обнимающий» и надевая опять pince-nez, чтобы вновь прочесть слушателю то место, где это самое было сказано.
И, перебрав красиво написанную с огромными полями рукопись, Алексей Александрович вновь прочел убедительное место.
– Я не хочу протекционной системы не для выгоды частных лиц, но для общего блага – и для низших и для высших классов одинаково, – говорил он, поверх pince-nez глядя на Облонского. – Но они не могут понять этого, они заняты только личными интересами и увлекаются фразами.
Степан Аркадьич знал, что когда Каренин начинал говорить о том, что делают и думают они, те самые, которые не хотели принимать его проектов и были причиной всего зла в России, что тогда уже близко было к концу; и потому охотно отказался теперь от принципа свободы и вполне согласился. Алексей Александрович замолк, задумчиво перелистывая свою рукопись.
– Ах, кстати, – сказал Степан Аркадьич, – я тебя хотел попросить при случае, когда ты увидишься с Поморским, сказать ему словечко о том, что я бы очень желал занять открывающееся место члена комиссии от соединенного агентства кредитно-взаимного баланса южно-железных дорог.
Степану Аркадьичу название этого места, столь близкого его сердцу, уже было привычно, и он, не ошибаясь, быстро выговаривал его.
Алексей Александрович расспросил, в чем состояла деятельность этой новой комиссии, и задумался. Он соображал, нет ли в деятельности этой комиссии чего-нибудь противоположного его проектам. Но, так как деятельность этого нового учреждения была очень сложна и проекты его обнимали очень большую область, он не мог сразу сообразить этого и, снимая pince-nez, сказал:
– Без сомнения, я могу сказать ему; но для чего ты, собственно, желаешь занять это место?
– Жалованье хорошее, до девяти тысяч, а мои средства…
– Девять тысяч, – повторил Алексей Александрович и нахмурился. Высокая цифра этого жалованья напомнила ему, что с этой стороны предполагаемая деятельность Степана Аркадьича была противна главному смыслу его проектов, всегда клонившихся к экономии.
– Я нахожу, и написал об этом записку, что в наше время эти огромные жалованья суть признаки ложной экономической assiette нашего управления.
– Да как же ты хочешь? – сказал Степан Аркадьич. – Ну, положим, директор банка получает десять тысяч, – ведь он стоит этого. Или инженер получает двадцать тысяч. Живое дело, как хочешь!
– Я полагаю, что жалованье есть плата за товар, и оно должно подлежать закону требованья и предложенья. Если же назначение жалованья отступает от этого закона, как, например, когда я вижу, что выходят из института два инженера, оба одинаково знающие и способные, и один получает сорок тысяч, а другой довольствуется двумя тысячами; или что в директоры банков общества определяют с огромным жалованьем правоведов, гусаров, не имеющих никаких особенных специальных сведений, я заключаю, что жалованье назначается не по закону требования и предложения, а прямо по лицеприятию. И тут есть злоупотребление, важное само по себе и вредно отзывающееся на государственной службе. Я полагаю…
Степан Аркадьич поспешил перебить зятя.
– Да, но ты согласись, что открывается новое, несомненно полезное учреждение. Как хочешь, живое дело! Дорожат в особенности тем, чтобы дело ведено было чéстно, – сказал Степан Аркадьич с ударением.
Но московское значение честного было непонятно для Алексея Александровича.
– Честность есть только отрицательное свойство, – сказал он.
– Но ты мне сделаешь большое одолжение все-таки, – сказал Степан Аркадьич, – замолвив словечко Поморскому. Так, между разговором…
– Да ведь это больше от Болгаринова зависит, кажется, – сказал Алексей Александрович.
– Болгаринов с своей стороны совершенно согласен, – сказал Степан Аркадьич, краснея.
Степан Аркадьич покраснел при упоминании о Болгаринове, потому что он в этот же день утром был у еврея Болгаринова, и визит этот оставил в нем неприятное воспоминание. Степан Аркадьич твердо знал, что дело, которому он хотел служить, было новое, живое и честное дело; но нынче утром, когда Болгаринов, очевидно нарочно, заставил его два часа дожидаться с другими просителями в приемной, ему вдруг стало неловко.
То ли ему было неловко, что он, потомок Рюрика, князь Облонский, ждал два часа в приемной у жида, или то, что в первый раз в жизни он не следовал примеру предков, служа правительству, а выступал на новое поприще, но ему было очень неловко. В эти два часа ожидания у Болгаринова Степан Аркадьич, бойко прохаживаясь по приемной, расправляя бакенбарды, вступая в разговор с другими просителями и придумывая каламбур, который он скажет о том, как он у жида дожидался, старательно скрывал от других и даже от себя испытываемое чувство.
Но ему во все это время было неловко и досадно, он сам не знал отчего: – оттого ли, что ничего не выходило из каламбура: – «было дело до жида, и я дожидался», или от чего-нибудь другого. Когда же, наконец, Болгаринов с чрезвычайною учтивостью принял его, очевидно торжествуя его унижением, и почти отказал ему, Степан Аркадьич поторопился как можно скорее забыть это. И, теперь только вспомнив, покраснел.
XVIII– Теперь у меня еще дело, и ты знаешь какое. Об Анне, – сказал, помолчав немного и стряхнув с себя это неприятное впечатление, Степан Аркадьич.
Как только Облонский произнес имя Анны, лицо Алексея Александровича совершенно изменилось: – вместо прежнего оживления оно выразило усталость и мертвенность.
– Что, собственно, вы хотите от меня? – повертываясь на кресле и защелкивая свой pince-nez, сказал он.
– Решения, какого-нибудь решения, Алексей Александрович. Я обращаюсь к тебе теперь («не как к оскорбленному мужу», – хотел сказать Степан Аркадьич), но, побоявшись испортить этим дело, заменил это словами: – не как к государственному человеку (что вышло некстати), а просто как к человеку, и доброму человеку и христианину. Ты должен пожалеть ее, – сказал он.
– То есть в чем же, собственно? – тихо сказал Каренин.
– Да, пожалеть ее. Если бы ты ее видел, как я, – я провел всю зиму с нею, – ты бы сжалился над нею. Положение ее ужасно, именно ужасно.
– Мне казалось, – отвечал Алексей Александрович более тонким, почти визгливым голосом, – что Анна Аркадьевна имеет все то, чего она сама хотела.
– Ах, Алексей Александрович, ради бога, не будем делать рекриминаций! Что прошло, то прошло, и ты знаешь, чего она желает и ждет, – развода.
– Но я полагал, что Анна Аркадьевна отказывается от развода в том случае, если я требую обязательства оставить мне сына. Я так и отвечал и думал, что дело это кончено. И считаю его оконченным, – взвизгнул Алексей Александрович.
– Но, ради бога, не горячись, – сказал Степан Аркадьич, дотрагиваясь до коленки зятя. – Дело не кончено. Если ты позволишь мне рекапитюлировать, дело было так: – когда вы расстались, ты был велик, как можно быть великодушным; ты отдал ей все – свободу, развод даже. Она оценила это. Нет, ты не думай. Именно оценила. До такой степени, что в эти первые минуты, чувствуя свою вину пред тобой, она не обдумала и не могла обдумать всего. Она от всего отказалась. Но действительность, время показали, что ее положение мучительно и невозможно.
– Жизнь Анны Аркадьевны не может интересовать меня, – перебил Алексей Александрович, поднимая брови.
– Позволь мне не верить, – мягко возразил Степан Аркадьич. – Положение ее и мучительно для нее и безо всякой выгоды для кого бы то ни было. Она заслужила его, ты скажешь. Она знает это и не просит тебя; она прямо говорит, что она ничего не смеет просить. Но я, мы все родные, все любящие ее просим, умоляем тебя. За что она мучается? Кому от этого лучше?
– Позвольте, вы, кажется, ставите меня в положение обвиняемого, – проговорил Алексей Александрович.
– Да нет, да нет, нисколько, ты пойми меня, – опять дотрогиваясь до его руки, – сказал Степан Аркадьич, как будто он был уверен, что это прикосновение смягчает зятя. – Я только говорю одно: – ее положение мучительно, и оно может быть облегчено тобой, и ты ничего не потеряешь. Я тебе все так устрою, что ты не заметишь. Ведь ты обещал.